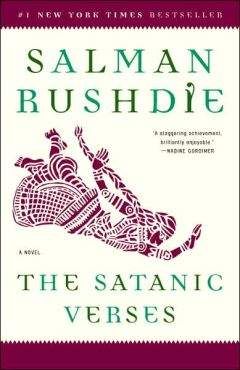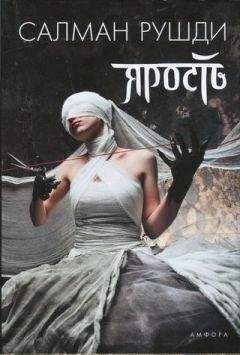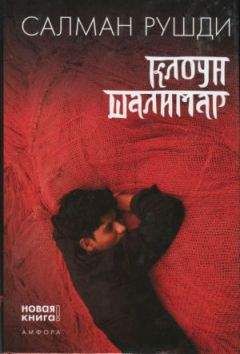— Прыгай, ты, блядский мантикор! Я передушил много больших кошек в своё время…
Когда я был моложе. Когда я был молод.
Позади него раздаётся смех, и смех этот отражается — или это только кажется — от зубчатых стен. Он оглядывается вокруг; мантикор исчез с крепостного вала. Он окружён группой разодетых в причудливые платья джахильцев, возвращающихся с ярмарки и хихикающих:
— Теперь, когда эти мистики приняли нашу Лат, им чудятся новые боги за каждым углом, да?
Хамза, понимая, что ночь будет полна ужасов, возвращается домой и требует свой боевой меч.
— Больше всего на свете, — рычит он на тонкого, как бумага, оруженосца, служившего ему верой и правдой в бою и в мирное время сорок четыре года, — я ненавижу признавать, что мои враги правы. Я всегда думал, что намного лучше прикончить треклятых выблядков. Чертовски правильное решение. — Меч оставался вложенным в кожаные ножны со дня его обращения в веру племянника, но сегодня вечером он доверяется слуге: — Лев на свободе{356}. С миром нужно ещё потерпеть.
Это последняя ночь празднества Ибрахима. Джахилья — маскарад и безумие. Намасленные, лоснящиеся тела борцов завершили свои извивания, и семь поэм уже прибиты к стенам Дома Чёрного Камня. Теперь поющие шлюхи сменяют поэтов, и танцующие шлюхи, с такими же намасленными телами, тоже выходят на работу; ночная борьба сменяет свою дневную разновидность. Куртизанки{357} танцуют и поют в золотых птицеклювых масках, и золото отражается в блестящих глазах клиентов. Золото, повсюду золото: в ладонях джахильских спекулянтов и их сладострастных гостей, в пылающих жаровнях песка, на сверкающих стенах ночного города. Хамза болезненно пробирается через улицы золота, то и дело натыкаясь на лежащих в беспамятстве пилигримов, пока карманники добывают свой хлеб насущный. Он слышит пьяный кутёж за каждым сверкающе-золотым дверным проёмом и ощущает, что пение, воющий смех и бренчание монет ранят его подобно смертельным оскорблениям. Но он не находит того, что ищет, его здесь нет, и потому он идёт прочь от сверкающего золотого веселья и начинает преследовать тени, высматривая призрак льва.
И находит, спустя часы поиска, то, что, как он и предполагал, должно ожидать его в тёмном углу внешних городских стен: предмет своего видения, красного мантикора с тремя рядами зубов. У мантикора голубые глаза и мужеподобное лицо, а голос его — полутруба и полуфлейта. Он проворен как ветер, его когти изогнуты как буравы, а его хвост разбрасывает отравленные дротики. Он любит питаться человеческой плотью… Начинается свара. Ножи, свистящие в тишине, и время от времени — столкновение металла с металлом{358}. Хамза узнаёт атакованных: Халид, Салман, Билал. Сам уподобившись теперь льву, Хамза вынимает свой меч — рёв разрывает тишину — и несётся вперёд так быстро, как позволяют ему шестидесятилетние ноги. Противники его друзей неузнаваемы за масками.
Это — ночь масок. Проходя по развратным улицам Джахильи, с сердцем, наполненным желчью, Хамза видел мужчин и женщин в обличиях орлов, шакалов, лошадей, грифонов, саламандр, бородавочников, птиц-рок; выплывая из тьмы переулков, появлялись двуглавые амфисбены и крылатые быки, известные как ассирийские сфинксы. Джинны, гурии{359}, демоны заполонили город в эту ночь фантасмагории{360} и сладострастия. Но лишь теперь, в этом тёмном месте, замечает он красные маски, которые искал. Маски человекольвов: он бросается навстречу своей судьбе.
*
Во власти самоубийственной горечи трое учеников выпили и из-за своего незнакомства с алкоголем вскоре напились не только до опьянения, но и до одури. Они встали на маленьком пятачке и принялись злословить на прохожих, а некоторое время спустя водонос Халид, бахвалясь, принялся размахивать своим кожаным бурдюком. Он мог бы уничтожить город, у него было абсолютное оружие. Вода: она очистит Джахилью от грязи, смоет её, чтобы новое смогло зародиться из очищенного белого песка. Тогда-то люди-львы и погнались за ними и после долгого преследования загнали в тупик; просохшие от страха бузотеры, они смотрели в красные маски смерти, когда как нельзя кстати появился Хамза.
…Джабраил парит над городом, наблюдая за битвой. Она быстро завершается, едва Хамза выходит на сцену. Двое ряженых нападающих убегают, ещё двое мертвы. Билал, Халид и Салман порезаны, но не слишком серьёзно. Тяжелее, чем их раны — новости под львиными масками мертвецов.
— Братья Хинд, — признаёт Хамза. — Дела наши подходят к концу{361}.
Убийцы мантикоров, водные террористы, последователи Махунда садятся и рыдают в тени городской стены.
*
Что до него, Пророка Посланника Бизнесмена: глаза его теперь открыты. Он меряет шагами внутренний дворик своего дома — дома своей жены, — и не хочет входить к ней. Ей почти семьдесят, и в эти дни он относится к ней скорее как к матери, нежели как-то иначе. Она, богатая женщина, много времени назад нанявшая его, чтобы управлять её караванами. Его управленческие навыки были первым, что полюбилось ей в нём. А через некоторое время они полюбили друг друга. Непросто быть блестящей, преуспевающей женщиной в городе, где божества — женского пола, но женщины — всего лишь товар. Люди или боялись её, или считали, что она настолько сильна, что ей не нужно их участие. Он не боялся и смог дать ей чувство постоянства, в котором она так нуждалась. Тогда как он, сирота, нашёл множество женщин в ней одной: мать сестру любовницу сивиллу{362} друга. Когда он думал, что сходит с ума, она была той, кто поверила в его видения. «Это архангел, — сказала она ему, — а не какой-то туман в твоей голове. Это Джабраил, а ты — Посланник Бога».
Он не может не хочет видеть её сейчас. Она следит за ним сквозь каменнорешётное окно. Он не может перестать ходить, наворачивая круги по внутреннему дворику в случайной последовательности бессознательных географических фигур; его шаги вычерчивают череду эллипсов, трапеций, ромбоидов, овалов, окружностей. Пока она вспоминает, как он возвращался с караванных путей полным историй, услышанных в придорожных оазисах. Пророк, Иса, рождённый женщиной по имени Марьям{363}: рождённый без мужчины, под пальмой, в пустыне. Истории, заставлявшие сиять его глаза, ныне тают в отдалении. Она вспоминает его возбуждённость: страсть, с которой он был готов спорить — всю ночь напролёт, если потребуется, — что прежние, кочевые времена были лучше, чем этот золотой город, где люди бросают своих маленьких дочерей в пустыне. В древних племенах позаботились бы даже о беднейшей из сирот. Бог — в пустыне, — говорил он, — не в этом злосчастном месте. И она отвечала: Никто не спорит, любовь моя, уже поздно, а завтра нам надо заняться счетами.
У неё длинные уши; она уже слышала, что он сказал о Лат, Уззе, Манат. Что с того? В прежние дни он мечтал защищать маленьких дочерей Джахильи; почему он не может собрать под своим крылом и дочерей Аллаха? Но после того как он задаёт ей этот вопрос, она качает головой и тяжело прислоняется к прохладной стене у зарешечённого камнем окна. Пока её муж внизу проходит пятиугольники, параллелограммы, шестиконечные звёзды, а затем абстрактные и всё более лабиринтоподобные фигуры, для которых нет названий, словно он неспособен найти прямую линию.
Она выглядывает во внутренний дворик несколько мгновений спустя, но его уже нет.
*
Пророк пробуждается на шёлковых простынях, с разрывающейся от боли головой, в незнакомой комнате. Солнце за окном приближается к свирепому своему зениту, и на фоне оконной белизны вырисовывается высокая фигура в чёрном плаще с капюшоном, мягко поющая сильным низким голосом. Песню — ту, которую хором поют джахильские женщины, провожая мужчин на войну.
Сражайтесь — мы обнимем вас,
Обнимем вас, обнимем вас,
Сражайтесь — мы обнимем вас,
Венки вам будем вить.
Сбежите — мы покинем вас,
Оставим вас, покинем вас,
Отступите — забудем вас,
Не позовём к любви{364}.
Он узнаёт голос Хинд, садится и находит себя обнажённым под кремовой простынёй. Он обращается к ней:
— На меня напали?
Хинд поворачивается к нему, улыбаясь своей Хиндиной улыбкой.
— Напали? — передразнивает она его и хлопает в ладоши к завтраку.
Наложники входят, вносят, подают, убирают, выметаются. Махунд получает шелковистый чёрно-золотой халат; Хинд наигранно отводит глаза.
— Моя голова, — спрашивает он снова. — Меня ударили?
Она стоит у окна с низко опущенной головой, изображая скромницу.
— О, Посланник, Посланник, — дразнит его она. — Какой же негалантный Посланник. Ты же не мог прийти в мою комнату сознательно, по собственной воле? Нет, конечно же, нет, я же вызываю у тебя отвращение, я уверена.