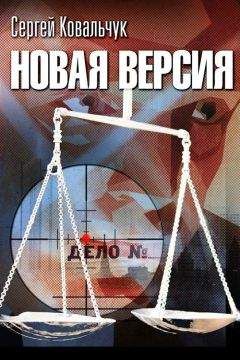– Голубчик вы наш, вы же знаете: никогда вам не отказывали. Мы все вас любим. Катя вот стоит, передает приветы…
Где-то за трубкой слышался смех, он вспоминал Катю, сочную, расширяющуюся, как ваза, от талии к тугой груди, с ногами немного полными сверху и убывающими к щиколотке: теплое, свежее смеющееся мясо.
– Не можем, не можем, – скорбно затихал Мишин голос, – никак не можем.
– Ну и идите вы на хрен! – раздраженно выкрикнул он.
В комнате затихло, эхо, рожденное звонким падением трубки на рычаг, успокоилось. Их было двое в комнате: писатель в черном, отглаженном костюме, усталый и со свалявшимися волосами, и большая черная сумка, плотно чем-то набитая. На полу, как скорлупа раскрывшихся яиц, лежали разорванные упаковки от бумаги – пустые. Там же лежали нож-гильотина и множество маленьких обрезков: в этой комнате недавно работали, на полу, торопливо, не прерываясь ни на секунду.
Он прошелся по комнате, поглядывая то на сумку, то на нож, то на телефон. Он знал, что Миша простит: они встретятся, выпьют, он расскажет анекдот, Миша заржет, как молодой конь, и статья появится. Но сейчас ему отказали – а он решил, что если откажут, то…
Он вспомнил «Русский дом» – здание на Фридрхштрассе, бесполезно-огромное и пустое, полное полусонных советских бабушек, несвежих немолодых мужчин в плохих костюмах, землистых, рыхлых женщин-немок, выпускниц русского отделения. В вестибюле висели линялые плакаты с девицами в народных костюмах, матрешками, туясками и полузабытыми космическими снарядами. В самом большом в мире Доме русской культуры отчетливо пахло то ли старыми тряпками, то ли просто болотом, и в прошлом шестая часть суши была здесь безнадежно мертва.
В редакции русской газеты, напротив, жили и работали весело: были чистые коридоры, офисная мебель, молодые люди в галстуках и девушки с густым макияжем. Здесь звонили телефоны, работали копировальные аппараты, свежие, с запахом типографии газеты увязывали в тюки, волочили, пинали через склад.
– Я закончила сортирейшн, сейчас буду делать аусдрюк![34]– весело докладывала секретарша, и газета, нарядный разноцветный листок, разлеталась по Германии, оседала в ящиках серых новостроек, переходила из рук в руки мрачных, крепко сбитых людей, трудно ворочающих немецкими словами, но носящих короткие четкие фамилии: Шмидт, Шульц, Ванд…
Писатель торопливо взвалил грузную сумку на плечо, закрыл дверь, спустился по лестнице. Отсчет ступенек вниз до первого этажа был похож на отсчет перед стартом ракеты… восемь, семь, шесть. Ремень сумки пружинил, качалось внутри что-то тяжелое. Четыре, три, два… Дверь на улицу открылась, свежая, мокрая ночь обступила, схватила, понесла – началось…
Было около трех утра, улицы были пусты. Он давно не видел свою улицу такой – мокрой, покинутой, освещенной строго и недоступно. Черные, словно развернутые вовнутрь себя витрины бликовали, выгибались, отражали лунные секторы. В огромном окне компании медиа-технологий лежала во всю длину первого этажа яркая девушка-проекция, электронный фантом в одном белье, с полуоткрытыми влажными губами, разметавшимися волосами, и лепестки цветов падали на нее сверху, через вспыхивающие и гаснущие окна этажей.
Он свернул в боковую улицу и стал торопливо подниматься в гору. Центр оставался внизу, начинались старые, довоенные дома, темный парк, покрытые граффити стены. Телебашня бессонно стояла над городом, выкидывала в сырую темноту то один, то другой красный огонек, ее узкое, увенчанное зеркальным дискотечным шариком тело нависало над глухой стеной дома, как радиотелескоп в древней пустыне.
Он шел по улице, по которой за час до него прошел дождь, обратив сухой, настороженный ночной мир в мир шорохов и тихих разрывных ударов, рожденных срывающимися со скошенных над землей плоскостей и убивающимися в мокрые дребезги каплями.
– Мокро, – бормотал он, – намочит, будет не то.
Но думал он совсем не о том – вспоминал, как читал в детстве в мемуарах военного летчика, героя войны о бомбах, которые можно сбрасывать «на взрыв» и «на невзрыв».
Через плечо висела сумка – тугая черная плоть, брюхо бомбардировщика, начиненное, как икрой, маленькими бомбами. Листочки, всего лишь листочки.
Норберт Вике, тогда – просто маленький жалкий Норберт, тоже доставал из карманов листочки, рассыпал их, собирал, извинялся. Кто знает, может, его открытие, его Нобелевская премия уже жила на этих листочках. И жена писателя, загадочная немка, всегда так незабвенно, так первозданно пахнувшая чистотой, – может, тоже уже была в этих листочках, как число «р», как «х», как одно из неизвестных хитрого уравнения.
На Розенталерплац были люди, работала будочка с Doener, источая желтый, уютный свет электрических ламп и призывный запах мяса.
Писатель прошел мимо, отворачиваясь, чтобы не увидели лица. Бомбы. Сумка, в ней – маленькие, медленные бомбы. Только «на взрыв». Буду подниматься по улице и кидать, думал он, и шагал, хлопая ботинками.
Пустая площадь осталась позади – он шел вдоль трамвайных линий. Пусто ночью, людно днем; тихо, и мостовая черна от воды – белые бумажки хорошо лягут поверх. Он сунул руку в черное нутро сумки, захватил стопку и бросил.
Стопка плюхнулась, бумажки рассыпались – и некоторые упали текстом вниз, на большинстве же рябила толстая черная надпись «Deutschland, Deutschland, Deutschland» – и дальше мелко.
Писатель шел дальше, брал теперь по одной, по две бумажки, и они ложились бесшумно, прилеплялись к влажному камню и не двигались больше.
Из-за угла, на противоположной улице, появилась вдруг темная фигура, быстро ступившая на проезжую часть и зашагавшая наперерез писателю, через рельсы. Он вздрогнул, вытащил руку из сумки, хотел развернуться, но не развернулся и пошел дальше. Не бояться. Все нормально. Только не бояться.
Он все равно боялся: мокрая ночь стала теплой, влага – потной, а молодой человек шел, не смотря по сторонам, и только перейдя дорогу немного замедлился и повернул голову, неожиданно блеснувшую темными стеклами.
«В черных очках. Ночью. Какой-нибудь тусовщик», – подумал писатель, приближаясь. Человек, больше не оглядываясь, начал подъем по темной улице. Писатель дошел до следующего перекрестка и, оглядевшись, выкинул снова несколько бумажек. Где-то вдалеке раздался странный, еле слышный звук вроде сработавшей сигнализации, и он вздрогнул. Но писк явно не имел к нему отношения, был сам по себе – и он пошел дальше.
IV
А француз все появлялся. Он явился на следующий же день. По приезде я сразу провалился в сон, как в реку, которая несла меня всю ночь, проталкивая через свои пороги и излучины, чтобы утром вынести на совершенно не известный берег. Я проснулся и долго думал, что я дома: здесь вся комната так же состояла из кровати. Пахло по-другому, другое было солнце за окном, и вода била в кафельный пол где-то совсем близко. И потом, через сонные дебри, пришло: мы в отпуске, в гостинице, она в душе.
Мы спустились к завтраку, и когда я выбирал себе из сдобной горячей кучи булочку, он появился. Он был приветлив, этот французский сукин сын: хлопнул меня по плечу, изобразил что-то вроде «гутен таг» и сразу повернулся к ней, заладив свою картавую скороговорку.
– Ты что, еда не нравится? – спрашивала она меня, когда мы завтракали втроем, и он что-то рассказывал, а пот маленькими капельками время от времени срывался с его лба и плюхался в тарелку.
– Нет, все хорошо. Вот он не нравится, – отвечал я, имея в виду француза.
– Ах перестань! – говорила она, отворачиваясь. – Давай я как-нибудь научу тебя французскому!
Она снова тарахтела, а я жевал свои булочки, и присутствие француза было крайне неприятно. «Schlaghebel, Stuzriegel»[35], – бормотал я, и пальцы мои скользили по коленям, следуя за изгибами воображаемых частей.
Море оказалось бесконечным полем напряженного шума, куда-то далеко уходил жаркий свет, редея над водой, встречаясь с холодом – и крики, взвизгивания людей, уходивших, погружавшихся в него, улетали далеко и не возвращались.
Мы ходили в очень шумный город, где было много маленьких юрких машин, и где женщины, появляясь в окнах над головами прохожих, кричали друг другу через улицу непонятные слова. Волной набегали полуголые дети, шумно уносились – а она была молчаливой и разговаривала односложно. Француз появился снова, когда мы возвращались в гостиницу по раскаленной дороге, шедшей вдоль моря, – он подскочил откуда-то сзади, начал говорить, и она снова стала разговорчивой. Под ногами мягко прел асфальт, мы возвращались в гостиницу. В воздухе что-то менялось, было по-особому жарко, как в страшном сне, и море шумело сдавленно, словно прижатое ко дну раскаленным воздухом. Она смеялась, будто не чувствовала, и потом сказала, что нас приглашают в бар, выпить чего-нибудь: пойду ли я?