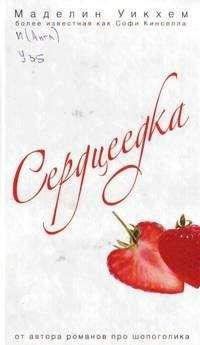- Ты благородна. Я видел твое имя в истории Франции.
Он иронично улыбался, дабы уверить ее в своем презрении к знати, о тщеславии которой напыщенно говорил школьный учитель всякий раз, когда мы возвращались к событиям ночи 4 августа [37]. Кюлафруа думал, что презрение означает безразличие. Дети, и в первую очередь ее собственный ребенок, вызывали в Эрнестине смущение почти так же, как во мне вызывает смущение прислуга; она краснеет и думает, что ее разгадали; или думает, что ее разгадали, и краснеет, не знаю. Она тоже хотела быть благородной. Она задавала тот же вопрос своему отцу, который краснел точно так же. Должно быть, "История" находилась в семье давно, играя в какой-то мере роль дворянской грамоты, и, может быть, именно Эрнестина, измученная слишком богатым воображением, превращавшим ее то в несчастную графиню, то в одну или сразу нескольких маркиз с тяжеловесными гербами и коронами, отправила книгу на чердак, подальше от себя, чтобы ускользнуть от ее чар; но она не знала, что, помещая ее у себя над головой, она никогда не сможет избавиться от нее, ибо единственным по-настоящему действенным средством было закопать ее в землю, или же утопить, или сжечь. Она не ответила, но если бы он мог читать в ее душе, Кюлафруа увидел бы там опустошения, произведенные единственно этой непризнанной знатностью, в которой она не была уверена и которая в его глазах возвышала ее над сельчанами и приезжими из города. Она описала герб. Ведь теперь она была знакома с геральдикой. Она добралась до Парижа, чтобы порыться в сочинениях д'Озье [38]. Там она изучила Историю. Мы уже говорили, что ученые почти никогда не действуют иначе, из других побуждений. Филолог не признается (впрочем, он об этом и не знает), что его вкус к этимологии восходит к поэзии (верит ли он, или смог бы поверить, но его побуждает сила плоти), содержащейся в слове "клавиша", где угадываются, если ему угодно, слово "ключ" и слово "колено" [39]. Узнав однажды, что самка скорпиона пожирает своего самца, молодой человек становится энтомологом, а другой делается историком, когда прочтет, что Фридрих II Прусский принуждал воспитывать детей в изоляции. Эрнестина попыталась избежать стыда этого признания -вожделенного желания быть дворянкой, - быстро сознавшись в менее позорном грехе. Это старая уловка: хитрость частичных признаний. По своей инициативе я признаюсь в немногом, чтобы надежнее утаить самое главное. Следователь сказал моему адвокату, что если я разыгрывал комедию, то делал это блестяще: но играл я лишь время от времени. Я преумножил ошибки защиты, и это было прекрасно. Судебный секретарь, казалось, думал, что я симулировал простодушие - мать оплошностей. Судья вроде бы верил в мое чистосердечие. Оба они ошибались. Я действительно указывал на компрометирующие детали, о которых они сперва не знали. (Я много раз повторял: "Это было ночью" -обстоятельство отягчающее в моем случае, как мне сказал следователь, - но я думал также и о том, что опытный преступник не признался бы в этом: мне нужно было показаться новичком. Именно в кабинете следователя мне пришло в голову сказать, что "это было ночью", потому что той самой ночью произошли некоторые события, которые мне нужно было скрыть. Я уже намеревался отвести обвинение в новом преступлении, совершенном той ночью, но, поскольку тогда я не оставил никаких следов, то и не придавал этому значения. Позже значение проклюнулось и стало расти - не знаю, почему, - и я машинально сказал "ночью", машинально, но настойчиво. А на втором допросе я вдруг понял, что недостаточно хорошо путал события и даты. Я все просчитал и предусмотрел с такой точностью, что она сбила следователя с толку. Это было чересчур ловко. Мне нужно было заботиться только о своем деле: у него их было двадцать. Следователь же допросил меня не о том, о чем должен был бы допрашивать, если бы был проницательнее или имел больше времени, и на что я подготовил ответы, - но о деталях довольно крупных, на которых я не останавливался, потому что не предполагал, что следователь может о них подумать). Эрнестине не хватило времени, чтобы изобрести преступление: она описала герб. "На серебряно-лазурном поле, рассеченном на десять частей, червленый с золотыми когтями и языком лев. В нашлемнике фея Мелузина". Это был герб рода Лузиньян [40]. Кюлафруа слушал сию блестящую поэму. Эрнестина досконально знала историю этой семьи, из которой вышли и короли Иерусалима, и государи Кипра. Их бретонский замок был якобы построен Мелузиной, но Эрнестина не довольствовалась этим: это была легенда, а ее рассудку для ирреальных построений требовались более прочные материалы. Легенда -все равно что ветер. Эрнестина не верила в фей -созданий, посланных для того, чтобы сбивать с прямой дороги дерзких мечтателей; волнение охватывало все ее существо при чтении хроник:
"...Заморская ветвь... Герб, который воспевает..." [41]
Она знала, что лгала. Желая прославиться древним происхождением, она уступала зову ночи, земли и плоти. Она искала свои корни. Она хотела ощущать за собой могущество оплодотворяющей династической силы. Словом, геральдические изображения впрямую прославляли ее.
Говорят, что скрюченная поза "Моисея" Микеланджело была задана компактной формой мраморной глыбы, которую он должен был обработать. Дивине постоянно попадаются причудливые куски мрамора, заставляющие ее создавать шедевры. Кюлафруа представится такой случай, когда, уже после побега, он окажется в городском саду. Он брел по аллеям, пока в конце одной из них не увидел, что должен вернуться, чтобы не ступить на газон. Разворачиваясь, он подумал: "Он сделал резкий поворот", и слово "поворот", схваченное на лету, заставило его выполнить легкий полуоборот. Он вот-вот должен был начать танец со сдержанными, еще не продуманными до конца движениями, существующий лишь в замыслах, но подметка его дырявого башмака протащилась по песку и произвела постыдно вульгарный звук (ибо необходимо еще отметить:
Кюлафруа, или Дивина, с присущим им утонченным вкусом, то есть претенциозным, куртуазным - ведь мысленно наши герои разыгрывают сцену влечения молодых девушек к чудовищам - всегда в конце концов оказывались в ситуациях, которые им самим были отвратительны). Он услышал звук скребущей по земле подметки. Этот призыв к порядку заставил его опустить голову. Он тут же принял задумчивый вид и медленным шагом возвратился назад. Гуляющие по саду смотрели на него, и Кюлафруа знал, что они отмечали его бледность, худобу, опущенные веки, тяжелые и круглые, как шарики. Он еще ниже склонил голову, шаги его еще более замедлились - настолько, что, казалось, будто он горячо взывал к кому-то, и он - не подумал, но проговорил кричащим шепотом:
- Господи, я - среди избранных вами. За мгновения, в которые он делал эти несколько шагов, Господь подхватил его и поставил перед своим престолом.
Дивина - вернемся к ней - стояла на бульваре, прислонившись к дереву. Здесь не было никого, кто не знал бы ее. Три прохвоста из местных направлялись в ее сторону. Сперва они шли, посмеиваясь над чем-то, возможно, над Дивиной, -затем поздоровались с ней и спросили про успехи. Дивина держала в руке карандаш; она машинально провела им по ногтям, нарисовав сперва какое-то неровное кружево, потом, уже более сознательно, ромб, розетку, листок падуба. Негодяи стали ей хамить. Они говорили, что это, верно, очень неприятно - члены, которые старики... что в женщинах больше очарования... что они сами сутенеры... и тому подобное; конечно, они говорили без злобы, но их слова все же ранили Дивину. Ее смущение растет. Они совсем молоденькие, а ей уже тридцать лет, она могла бы заставить их замолчать одним ударом наотмашь. Но они мужчины. Еще молодые, но с крепкими мышцами и твердым взглядом. Вот они стоят, все трое безнадежно непреклонные, как Парки. Щеки у Дивины горят. Она делает вид, что всерьез увлечена рисунком на ногтях и ничем больше: "Вот какие слова, -подумала она, заставят их поверить, что я ничуть не смущена". И, протягивая ребятам руку с выставленными ногтями, улыбаясь, говорит:
- Я заведу новую моду. Да-да, новую моду. Вы увидите - это будет премило. Женщины-мы и женщины-другие будут заказывать себе кружевные узоры на ногтях. Из Персии выпишут художников, и они будут рисовать миниатюры, которые можно будет рассматривать в лупу! Ах, Боже мой!
Парни пришли в замешательство, и один сказал за всех троих:
- Чертова Дивина. Они удалились.
Именно в этом месте и в этот день родилась мода украшать ногти персидскими миниатюрами.
Дивина думала, что Миньон в кино, а Нотр-Дам изучает витрины в каком-нибудь большом универмаге. Ближе к вечеру Миньон в американских ботинках, мягчайшей шляпе и с золотой цепочкой на запястье спускался по лестнице. Стоило ему пересечь порог дома, как его лицо утрачивало мраморную твердость и голубоватый стальной отблеск. Глаза размягчались настолько, что в них исчезал взгляд, и они превращались в два отверстия, в которые проникало небо. Но при ходьбе он, как и прежде, продолжал раскачиваться. Он шел до Тюильри и садился там в чугунное кресло.