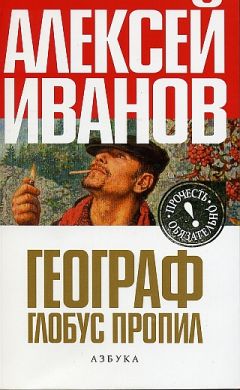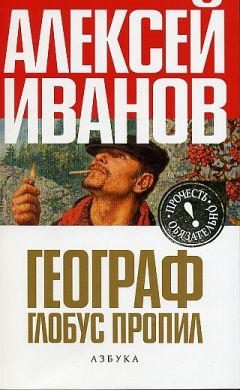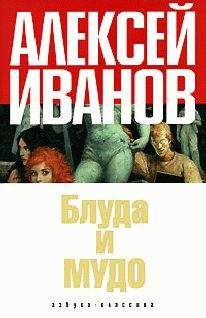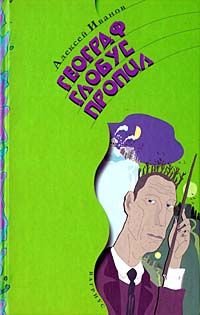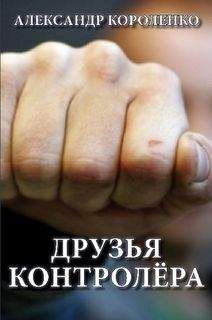— Мелочь, — согласился Служкин. — Но именно мелочи глубже всего задевают. Так вроде уже со всех сторон корой зарос, и вдруг — бац... По такой мелочи и чувствуешь, что ребенок твой — это как душа без оболочки. Просто, Лен, ошпаривает понимание того, как дети беззащитны и в то же время — такая несправедливость! — уже отдельные от нас существа...
— Они с самого начала от нас отдельные, — грустно улыбнулась Лена. — Андрюша, садись в санки... Если бы ты, Витя, сам родил да возился с ребенком, убирал, кормил, пеленки стирал, то не расстраивался бы так по мелочам, проще относился.
— Я возился, стирал, — вяло ответил Служкин.
— Все-таки красный костюмчик — не для Нового года. — Лена мягко коснулась руки Служкина. — Надо было, Витя, надеть ей белое платье. Мало ли чего ей хотелось. Балуешь ты ее.
— Да я не балую... У меня ощущение страшной вины перед ней...
— Какой вины, ты чего?
— Ну как какой?.. Папаша я никудышный, семьи толком нет... Если Тата сейчас семейной любви не увидит, она в будущем себе всю судьбу покривит. А все мои отношения с Надей только и держатся на том, что у нас дочь. Вырастет Тата и поймет, что из-за нее у родителей жизнь не в ту сторону пошла, — и каково ей будет жить с этой виной, в которой она-то и не виновата? Каково ей будет, если она поймет, что родилась нежданная, нежеланная, по залету, по нашей ошибке? Что она о нас думать будет и о себе самой?.. Извини, Лен, что я тебе все это говорю. Ты ведь поймешь меня, да? Ведь день твоей свадьбы и день рождения Андрюши не трудно сопоставить...
Лена тяжело молчала. Она была одета в длинную недорогую шубу, в валенки, на руках — расшитые бисером рукавички. В овале теплого толстого капора ее лицо, чуть румяное от мороза, казалось иконописным ликом, но все равно оставалось живым — тонким, красивым, усталым русским лицом. Андрюша возился в санках, усаживаясь поудобнее.
— А тебе, Витя, не хотелось бы начать все сначала? — Негромко вдруг спросила Лена. Служкин помолчал.
— Этот вопрос нельзя задавать, — сказал он. — И думать об этом тоже нельзя. Желать начать все сначала — это желать исчезновения нашим детям.
— Ну... не детям... хотя бы ошибки исправить...
— Мы никогда не ошибаемся, если рассчитываем на человеческое свинство, — сказал Служкин. — Ошибаемся, лишь когда рассчитываем на порядочность. Что значит «исправить свои ошибки»? Изжить в себе веру в людей?.. Самые большие наши ошибки — это самые большие наши победы.
— Ты всегда думал в таких широких масштабах... — усмехнулась Лена.
— Наоборот, — возразил Служкин. — Я думаю в самом узком масштабе — только человек. Я, Лена, стараюсь думать лишь о том, что рядом, — как получается, конечно. И стараюсь вообще не думать о том, чтобы все начать сначала.
— Наверное, ты прав, — кивнула Лена. — Я тоже чувствую, что это плохо — когда желаешь вернуться обратно и жить заново... И все равно иногда очень хочется начать все сначала.
Глава 29
«ЭТИ ГЛАЗА НЕ ПРОТИВ»
С утра отключили воду — всю: значит, надо было идти на ключик. Неумытый и раздраженный, Служкин напялил пуховик и ботинки и потопал в подвал, в кладовку. Канистру он нашел сразу, а в поисках крышки от нее пришлось перевернуть весь хлам — мешки со старыми игрушками, связки макулатуры, узлы тряпья, обрезки досок и фанеры, обломки лыж, какие-то чайники, коробки, пыльные бутылки, хоккейные каски, велосипедные рамы, рваные раскладушки и вообще невесть для чего хранящиеся вещи вроде половинки корпуса от стиральной машины или упаковки минерального удобрения.
Пока Служкин рылся, хлопнула дверь подвала, чьи-то плечи шаркнули по стене, и в дверях кладовки появился багровый от натуги Будкин, приволокший два пластмассовых ящика с банками.
— Здорово, Витус, — пропыхтел он. — За водой собрался?..
— За дерьмом, — мрачно ответил Служкин и сел в санки покурить.
Будкин опустил ящики на верстак и захехекал.
— Слушай, а можно, я их у тебя поставлю? — спросил он.
— Ставь, — безразлично кивнул Служкин. — А с чем они?
— С дерьмом, — сказал Будкин и сел на канистру.
Служкин достал из ящика длинную банку и повертел перед глазами.
— Слива в крепленом вине, — прочел он. — Попробуем?
— Это же на продажу... — замялся Будкин.
— Продашь, деньги выручишь — все равно пропьешь.
Будкин грустно хехекнул, подумал, взял с верстака стамеску и пробил в банке две дырки. Банку он протянул Служкину, а себе достал вторую и открыл подобным же образом. Они начали пробовать.
— Чего давно в гости не заходил? — спросил Служкин.
— Дела, — неопределенно ответил Будкин и закурил.
— Брехать — не кувалдой махать... Из-за Нади?
— Н-ну... — сознался Будкин. — Достала она меня.
— Мне-то чего врешь? — Служкин приложился к банке. — Я-то вижу.
— Чего ты видишь?
— Что влюбилась она в тебя.
Будкин ничего не говорил, яростно дымя сигаретой.
— Ну продолжай, — подтолкнул его Служкин.
Будкин зажег вторую сигарету от первой, хехекнул, помолчал и неожиданно кратко и твердо сказал:
— Да.
— И что, крепко? — усмехнулся Служкин.
— Крепко, — кивнул Будкин. — Ты же знаешь, Витус, со мной такого никогда не бывало, а вдруг случилось... Ну я и решил держаться подальше. А что делать-то? Посоветуй. Ты же здесь командир.
— Командир пропил мундир... Кому советовать-то? Тебе? Так в этих делах я перед тобой просто щенок. Вам самим решать надо, а не играть в Штирлица с Мюллером, как детям малым.
— Ну тогда, блин, держи ее на цепи! — рявкнул Будкин. — А за себя я ручаюсь!
— Я не умею! — Служкин развел банкой и сигаретой. — К тому же она все равно вынудит меня, что-бы я заставил ее сделать то, что она и так хочет сделать. И я же буду виноват.
— Ты-то здесь при чем?.. — устало поник Будкин.
— Вот и я говорю: я-то при чем? Что я, за вас все решать буду и все грехи на себя возьму? Минует меня чаша сия. Я Наде — никто.
— Что же ты, презентуешь мне ее? — растерялся Будкин.
— Она мне не принадлежит. Я ее свободы не умаляю.
Будкин допил банку, повертел в руках и бросил в ведро.
— Нет, я так не могу, — подвел он итог. — Друг все-таки...
— Вот как! — крякнул Служкин и тоже допил банку. — Ехали-ехали, да никуда не приехали. Ты для себя реши, а за меня не боись. Я-то ничего не теряю, у меня нет ничего. А. Наде я счастья желаю, я перед ней виноват. Если уж ей такое счастье выпадает — пусть будет такое.
— Как-то дико все это, Витус... — Будкин обеими руками стал скрести голову. — Душа разрывается... Да и не верю я тебе...
— Ну хочешь, пойдем к тебе, я позвоню Наде и скажу, что ты ее любишь? — предложил Служкин. — Тогда ты поверишь, что я зла не держу? Сидишь тут мрачнее навозной кучи...
— Пойдем, — убито согласился Будкин.
Они заперли подвал и пошли к Будкину. Не разуваясь, ввалились в комнату. Будкин набрал номер и протянул Служкину трубку.
— Алло? — произнесла Надя.
— Надя, это я, — сказал Служкин. — Мы тут с Будкиным хорошо поговорили, и я должен тебе сказать, что он тебя любит.
— Вы что, пьяные? — яростно спросила Надя.
— А что, тебя любить только спьяну можно?
— Передай ему, что он козел! — крикнула Надя и бросила трубку.
Будкин стоял и глядел на Служкина собачьими глазами.
— Она дала понять, что очень рада, — пояснил Служкин, опуская трубку на рычаг. Он ненадолго застыл, глядя куда-то в пустоту. — Старая я толстая сводня, — сказал он. — Виктор Сергеевич Случкин... Пойдем обратно в подвал, вмажем еще по банке, а потом на ключик слетаем — тебе ведь тоже водой запастись надо?
Через час красные, расхристанные, они вывалились из подвала, волоча за собой по ступенькам санки. В санках громоздились две канистры — толстая пластиковая Служкина и тощая алюминиевая Будкина. Канистры чем-то напоминали опальных боярыню Морозову и протопопа Аввакума. У дверей подъезда, расстелив по снегу пушистый хвост, сидел Пуджик и смотрел на Служкина спокойными, как копейки, желтыми глазами. Пока Будкин, прикрывшись воротником, закуривал, Служкин, почти встав на четвереньки, гладил кота и бормотал:
— Не трусь, солдат ребенка не обидит...
Взявшись под локоть, как супружеская пара, Служкин и Будкин твердо двинулись вперед, а сзади санки оставляли извилистый след на заметенном тротуаре.
— Споем? — предложил Будкин, когда они проходили мимо школы.
— Какое петь! Я же блин на хрен педагог! — осадил его Служкин.
На позвоночнике скелета теплицы сидели Чебыкин и Градусов.
— Виктор Сергеич! Здрасьте! — заорал Чебыкин.
— Здрасьте... — Служкин вяло махнул рукой.
— Вы куда пошли?
— В публичный дом, — ляпнул Служкин.
Чебыкин и Градусов превратились в изваяния наподобие химер собора Парижской Богоматери, а потом восхищенно заржали.