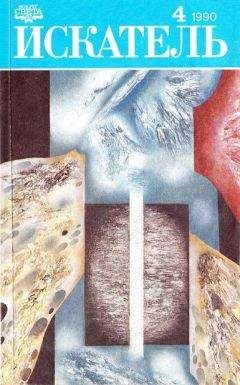Командир сказал:
— Я последний раз был в Ленинграде в августе… Конечно, я слышал, читал о положении Ленинграда в настоящее время, Ленинград защищаю, но до конца, видно, не представлял… Пожалуй, даже муж не сразу бы узнал вас… Мы приехали с Большой земли, с той стороны Ладоги.
Последней фразе (о муже) я не придала того значения, какое вкладывал говоривший, и стала читать поданное мне письмо, а посетители пошли зачем-то к машине.
Сергей Михайлович писал, что очень хочет помочь мне, зная из верных источников о положении ленинградцев. Призывает проявить максимум благоразумия, рассудительности; не удивляться, не возмущаться (особенно вслух перед подателями письма), чтобы не поставить его в очень неприятное положение перед командованием дивизии… Дело в том, что сейчас командование использует любую командировку для того, чтобы вывозить из Ленинграда близких родственников дивизионных командиров, желая помочь мне, он тоже подал заявление, назвав меня своей женой. Посылает документ на выезд в Молотовскую область, там живет его матушка… Поехавшая машина должна захватить троих, в том числе и меня, привезти нас в дивизию, а там нас переправят в тыл в соответствии с документами на эвакуацию. «У меня будет возможность лично проследить ваш отъезд из дивизии в тыл».
Просит не отвергать его помощь, согласиться на выезд и не осуждать его за ложь, предпринятую во имя моего спасения, а другого варианта не могло быть: «Эту идею подсказал мне мой непосредственный командир и большой друг, начальник того отдела дивизии, где составлялись списки; он — единственный, кто знает, что Вы мне не жена, а девушка, о которой я не перестаю думать с той короткой единственной встречи…» Умоляет ни в коем случае не проговориться подателю письма, что не жена Морозова.
Меня одолели разноречивые чувства: благодарность, удивление, тревога. Какое он имеет право уговаривать меня на выезд на таких началах — тем более призывать меня воспользоваться его обманом многих людей, стать соучастницей лжи…
Мужчины вернулись с двумя свертками и тремя березовыми чурбаками. Шофер принялся колоть чурбаки, а командир сказал, кладя свертки передо мной:
— Для подкрепления перед отъездом — гостинец: один пакет от мужа, другой — от командования части. Мы к вам заедем послезавтра утром — будьте полностью готовы к отъезду…
Я поблагодарила их… Свертки приковывали мое внимание, и я размышляла, как поступить. Была мысль — не принимать посылочек! Это в моем-то положении! То чувство благодарности и предвкушения еды захлестнет, то возмущение ложью Морозова возьмет верх… Если приму гостинцы — значит, стану соучастницей обмана? Чем руководствовался Сергей Михайлович? Святая ложь во спасение человека? Человека вообще или именно меня? Представляет ли он меня сегодняшнюю? Не принять в моем положении гостинец — нелепость… Принять — значит принять ложь доброго человека.
Мужчины торопились уходить — им надо разыскать других людей, настоящих жен командиров их части…
И я выдавила из себя:
— Я никуда из Ленинграда не поеду, — передайте это Сергею Михайловичу…
— Почему?
— Я утром передам с вами письмо для него, в нем объясню, почему не могу и не хочу ехать…
— А все же — почему?
— У меня мама… и сил у меня нет… Но это не главные причины. О главной причине я могу сообщить лишь Сергею Михайловичу… А эти посылочки передайте тем, кого вы будете еще навещать, может, они им нужнее, чем мне, я пока на ногах, а там, может, уже слегли… — искренне и одновременно печалясь, что могут эти пакетики сейчас мужчины взять и унести, сказала я.
Но мужчины не взяли, сказали, что они предназначены мне, а другим тоже послано…
…И вот я одна в комнате… Распаковала посылочки: одна от С. М., другая — от «командования части». При виде продуктов закружилась голова, затряслись руки…
Последней моей мыслью было: «В конце-то концов, имею я право воспользоваться этим богатством как изголодавшаяся блокадница!» — и все исчезло из памяти: приход мужчин, ложь Сергея Михайловича…
Передо мной на столе лежало невероятное чудо из двух пакетов: две буханки хлеба (не блокадного, настоящего), пакет замороженных пельменей, по кульку риса, пшена, две баночки мясной тушенки, кусочек сала…
Невероятно! Как раз в эти дни блокадные хлебные граммы возмещали мукой (75 процентов), так как лопнули трубы на хлебозаводе и хлеб не выпекали. Выстоять в очереди эту муку-муку на 30 — 40-градусном морозе не просто. Горсточка. Если нет топлива, что толку от этой муки! Даже болтушку не приготовить. Запьешь эту пыльцу ледяной водой…
…Нащипала лучинок, сложила их в устье печки, подожгла, а поверх щепок — полено (целое полено!).
Терпеть дольше не было сил — хлеб притягивал как магнит. Мысленно распределила: одна буханка — мне, другая — маме. Откусила угол от «своей» буханки… потом второй угол, третий, четвертый — и вот уже нет половины буханки… Усилием воли остановила себя… Подбросила еще полешко в печку и сварила суп: пять пельмешек, горстка пшена. Какой аромат!
Всплыли в памяти картинки из довоенной жизни, когда мама еще работала курьером, а не в студенческой столовой в академии. С получки мама приносила всякой вкуснятины (сардельки, масло, сахарный песок, булки, плюшки) и велела есть «от пуза», чтобы «жиринка в теле завелась и чтобы до следующей получки вы помнили вкус хорошей еды». А потом две недели жили на хлебе и столовском гороховом супе. Так «неразумно» она поступала потому, что «все равно моей зарплаты не хватит на нормальное питание, так уж лучше раз вкусно поесть и запомнить эту еду!»
…Пришла мама. Нет, не шаркающей походкой шла она по коридору, а бежала. Позже объяснила, что бежала она «на запах еды», спешила узнать от меня, не сходит ли она с ума, что ей «стали запахи довоенные чудиться».
— Нет, не чудится тебе, мамочка! Мы сейчас будем есть настоящие суп и хлеб!
У нее расширились зрачки, дышит часто. Даже не спросила — откуда это все появилось. Она была не похожа на себя вчерашнюю, пододвигавшую «незаметно» мне лишнюю «таблеточку» блокадного хлеба.
Сейчас она не слышала, не видела меня. Я не успела оглянуться, как мама доела «мою» (без уголков) буханку хлеба. Стала есть сырые промороженные пельмешки, еще не разжевав их, откусила от сала… Жевала крупу… Мне стало за нее страшно — это же опасно, может возникнуть кровавый понос, смерть… Я налила ей супу.
Я потрясла ее за плечи, потом стукнула кулаком по столу перед ее носом. Она опомнилась и спросила:
— Куда же провалилось все, что я съела сейчас?! Как в яму, а не в желудок… Я совсем не чувствую съеденного, еще столько бы съела… Да, а откуда еда взялась?
Я рассказала. Только скрыла, с помощью какой неправды Сергей Михайлович предлагает мне уехать из Ленинграда.
Подумав, мама сказала:
— Доченька, а уехать-то тебе надо бы. Ты таешь с каждым днем. Кроме истощения ты чем-то еще очень больна: ты плохо дышишь, кашель нехороший. Я крепче тебя — держалась прежним своим жиром. Ты и тетя Аня Семашко все стыдили меня за пятипудовый вес (как-то сестрица поживает сейчас, не выдюжить ей голод, так как и до войны была тоща, как вобла). Лишний жирок мне не мешал, выручил. А вот скажи, чем бы ты могла довольствоваться в мирное время, после войны, когда жизнь наладится, какой едой?
Я ответила, как клятву произнесла:
— Если мы выживем, то всю жизнь ела бы одну пшенную кашу… или манную… жиденькую, горячую, на воде сваренную, без масла, из прогорклой крупы даже…
Как плохо без радиотрансляции. Слушаю радио, когда бываю у Елены Григорьевны и в больнице. Почта закрыта, делать нам там нечего. Когда на городской почте разберут все письма, призовут обслужить и наш район.
Продукты (чудесный дар!) мы с мамой распределили на порции, я выделила немного и Елене Григорьевне. Она уже не выходит из квартиры.
Мама моя работает теперь в центре города (перешла в другой трудармейский отряд, так как сил ходить в Лесной не хватит). Я — в больнице Некрасова внештатно, как «отрядница», еле отрабатываю смену, а дома в постоянно дремотном состоянии…
По пути на работу выкупаю хлеб (встаю в очередь с 6 ч. утра, чтобы успеть на работу).
Да, через день, как обещал, тот командир заехал ко мне, сказал, чтобы я выходила к машине. Они выполнили все командировочные дела, побывали у жен, которых надо вывезти, — их две, в машине.
Я сердечно поблагодарила, сказала, что не еду, передала для Сергея Михайловича письмо, объяснив, что не хочу быть спасенной с помощью неправды.
В один из дней до работы пошла к Елене Григорьевне, чтобы отнести ей «кружевной» пластик сала и две ложки крупы. Это на нашей же улице, рядом со стоматологическим институтом, обледенелая лестница… дверь в квартиру открыта, в дверной ручке записка: «Е. Г. умерла, я помогала ее выносить к машине… Рая».