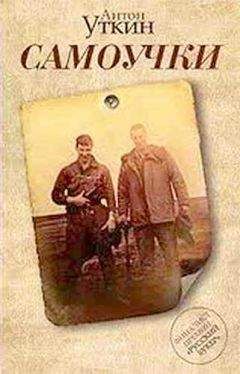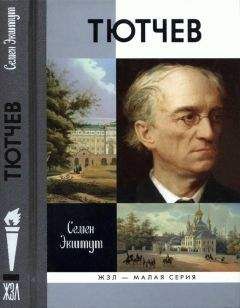— Потом я весело жила. Столько было парней, все такие интересные. Они так все классно умели делать. Любить, например. — Она усмехнулась и коротко взглянула на меня. — Все были такие умные, современные. Только со всеми я чувствовала себя одинокой, хотя их я как бы любила, а с ним я никогда не чувствовала себя одинокой, хотя его не любила… Наверное, это и есть любовь… Помню выпускной — коньяк под столом пили, прятались, а то — сказала директриса — аттестат не выдадут, если кого пьяным заметят. Мальчишки — то все равно напились. Всю ночь мы с ним таскались по Москве: он со мной, а я с этим букетом. И ночь и утро. Помню, у меня так каблуки стучали в тишине… Солнце такое было… Птицы на бульварах пели как сумасшедшие. Поливалки ездили, облили нас. Мы с ним ходили до обеда. Потом все утро на лестнице в подъезде просидели. Все не могли никак разойтись… Потом отец мой поднимался, и я пошла. А там у нас дом рядом ремонтировали, через переулок. Он только до него дошел и стал мочиться там в углу — терпел, наверное, всю ночь, стеснялся сказать, а здесь уже не выдержал. Глупость какая — то. Я из окна смотрела, у меня как раз окно на это место выходило. Как — то так смешно было. Смешно… Надо же, я ездила тогда в зимний лагерь, на лыжах кататься. Я даже помню такое слово — леспромхоз. Леспромхоз, — сказала она, прислушиваясь к своему голосу. — Мы все тогда были другие, не такие, как сейчас. А розы тогда были по рублю, — задумчиво проговорила она.
Я было хотел спросить, почему она мне все это рассказывает, но, в общем, сообразил и, к счастью, удержался.
— У меня дома есть выпускная фотография. Большая такая, они у всех есть, там весь класс и учителя в таких кружочках, в овалах. Так вот, смотрю я на него и думаю, что его должны были убить… Мы ценили благородство, чувствовали его красоту. А сейчас мы видим, что в нем одна красота, а смысла в нем нет, и поэтому оно ничего не может. А нашему времени нужен смысл, потому что красоты достаточно в любые времена.
Я не был на той войне, и меня не убивали. Мало того, в меня даже никто никогда не стрелял. Но отчего — то в ту минуту мне было очень нехорошо, и я желал одного — лежать на горячих камнях в долине, где лопочет шустрая студеная речка, в застиранной до белизны, выжженной солнцем солдатской куртке и отражать остекленевшими глазами густую синеву высокогорья.
Но это прошло.
В марте знакомые предложили мне работу — в том самом журнале, о котором уже говорилось, — и я променял время на деньги. Работы было много, была она скучновата; я долго не мог решить, выгоден ли этот обмен. Наши с Разуваевым занятия становились все реже и мало — помалу прекратились совсем.
Удивительно было другое — равнодушие овладевало им постепенно, несмотря на то что имелись веские причины для одного решительного поворота. Еще до смерти Ксюши он уже тяготился своим бессмысленным капризом. Неприятности, вызванные гибелью брата, тоже доходили не вдруг, а с искажением опоздания, как свет далекой звезды. В эти подробности я был едва посвящен. Началось с того, что он перестал появляться в своей конторе и пропадал неделями. Алла на работу уже не ходила — да и без того мы почти не виделись. Однажды она сказала мне, что Павел взял у нее в долг. Это было уже совсем непонятно.
А затем началось, как принято говорить, падение.
— Ты мозги ему запудрил своими балетами, — твердил хмурый Чапа, целомудренный, как пуританин.
Сначала я и сам так думал. Стремление подражать миру в его безумствах то и дело рождает интеллектуальных чудовищ, у которых вместо сердца — камни, что же еще! — а вместо нервов — ровные, рваные строки чужих откровений.
Мы с Чапой ждали Павла. Машина стояла возле офиса горохового “атамана” на Сретенке — между двумя домами прямо напротив детской площадки. Мои глаза нехотя скользили по деревянным истуканам, протравленным огнем, карабкались по острой крыше избушки, путались в грубоватой резьбе наличников.
— Мочить нас скоро будут, — равнодушно сказал Чапа, посмотрел, прищурившись, на лобовое стекло, вышел из машины и долго тер его бежевой тряпкой, разрисованной желтыми утятами с голубыми носами.
— Почему мочить? — спросил я.
— Потому, — зло ответил Чапа. — Меньше знаешь — спишь крепче. Так или нет?
— Наверное, так.
Самодовольное искусство! Самодовольный дурак! Говорю это с той скандальной прямотой, с какой, если верить нашим летописям, Святослав объявлял войну соседним народам. Искусство потрясает — но и только, и этот ветер никогда не дует долго. Чем сильнее порыв, тем он скоротечнее; даже листья с деревьев ветер снимает только осенью, а летом они остаются на своих местах, дожидаясь своего часа и недовольно уворачиваясь от его нетерпеливых, жадных, невидимых рук. Искусство способно изменить только жизнь художника, да и то в худшую сторону.
— Что же это, а? — рассудил я вслух. — Искусство бессильно изменить мир, страдание не очищает… Как же мы живем?
Чапа посмотрел на меня исподлобья, покрутил пальцем у виска и отвернулся. Рядом на площадке играли дети. К нам долетали их звонкие голоса, слегка приглушенные послеобеденным солнцем:
— На златом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной, а ты кто будешь такой?
Нет ни добра, ни зла, все равно нам осталось лишь медленное время — тяжелое, неповоротливое, как раствор в бетономешалке, и там барахтаемся мы — то ли червяки, то ли просто кусочки щебня.
Дети еще раз задали свой мудрый, извечный вопрос и рассыпались со смехом, как упавшие монеты, в разные стороны. Появился Павел, мы сели в машину и поехали из переулка. Павел казался мрачнее тучи и молча рассматривал свои ногти, прогнув кисти рук.
— Что будешь делать? — спросил я его. Отвернувшись, я смотрел, как с боков подплывают автомобили, заключая наш погоревший лицей в самую сердцевину пробки.
— Что — нибудь придумаю. — Он недобро усмехнулся, и они с Чапой хмуро переглянулись.
Они довезли меня до работы — бывшего школьного здания с рдеющей черепичной крышей.
— Ну ладно, — закончил Паша, — я тебя сам найду.
Чапа резко затормозил.
— Пошел! — крикнул Паша.
Я попрощался с обоими и шагнул в лужу, в которой таяли мелкие снежинки — последние случайные снежинки этой зимы — и где, словно желток протухшего яйца, болталось отражение фонарной лампы. Парадная дверь была оборудована оригинальной ручкой, исполненной в виде протянутой для рукопожатия бронзовой руки. Я взялся за эту холодную кисть, ощутив холодное пожатие нового времени, которое словно остужало тепло наших ладоней.
Мой рабочий стол помещался у окна, занимавшего две трети стены. Начало весны выдалось особенно мутным — туман владел улицей каждый день, я видел ее безлюдный кусок, а когда темнело, в тумане оставался какой — то светящийся треугольник, которому трудно подобрать сравнение.
— А вот интересный материал, — однажды сказал редактор и бросил мне на клавиатуру компьютера свернутую газету. — Новая мода. Это что — то новенькое. Какой у нас это номер?.. Седьмое, сентябрь. Черт возьми, это по — нашему. Погоди, — он схватил газету, — когда это было — то?
— Осенью, надо полагать, — предположил я. Мне почему — то вспомнился коммерческий волшебник Полисниченко, его зеленые глаза, которые огульно одобряли какие ни есть сумасбродства и даже нетитулованные завалящие шалости.
— Да, правильно, — редактор озадаченно поджал губы. Было видно, что думает он совершенно о другом и мысли его далеко. — Вот про таких надо писать. Жалко, что это уже было. Они, конечно, с ума сходят, но, с другой стороны… В общем, лучше так, чем никак.
— Не горюй, — ответил я рекламным лозунгом, — все еще будет.
— Нет, жизнь — это все — таки жизнь, — произнес он восхищенно и даже прищелкнул языком. — Богаче любой фантазии. Правильно я говорю?
На подоконнике верещала магнитола. Бодрый голос радиоведущего наставлял, как бороться с сантехниками, и гости студии все до одного поддельно возмущались бытовым рэкетом; потом были куски какой — то передачи о войне: “А у нас были моряки, — говорила женщина, — они все такие были рослые, здоровые мужчины, и они мне говорили, ну как ты нас потащишь, такая маленькая, брось, ползи назад…” Я слушал и никак не мог представить себе эту женщину, а видел другое — белые обожженные города, жаркое солнце юга. А потом кто — то перестроил частоту и поймал конец популярной песенки, и музыкальный ведущий сказал нарочито ломаным баритоном: “Землья по — прежьньему вьертится, и всье идьет хорошо”, и это — несмотря ни на что — было похоже на правду.
Иногда мне случалось проезжать мимо конторы. Смешной козырек и окна занимали свои места по — прежнему, но отчего — то казалось, что у них есть уже новый хозяин. Вывеска, правда, оставалась все та же. Интересно, думал я, куда делась картина, море… Однажды вечером я заметил коричневое пятно света, как бывает тогда, когда включена не люстра, а настольная лампа, поставленная в глубине помещения. Я выскочил из троллейбуса и долго жал кнопку звонка, пока на пороге не появился мужчина в камуфляже, перетянутый офицерским ремнем, на котором висела кобура. Он стер дрему с заспанного лица широкой ладонью и, недоверчиво на меня поглядывая, сообщил, что теперь здесь будет отделение банка, а о прежнем владельце ему ничего не известно. Все телефоны, в том числе и сокровенный сотовый, молчали как обрезанные, и даже “мобильная” девушка, нежным голосом сообщавшая, что “абонент временно недоступен”, больше не откликалась на мои сигналы. И мне все чаще являлась мысль, что абонент в этом мире перестал быть доступен вообще.