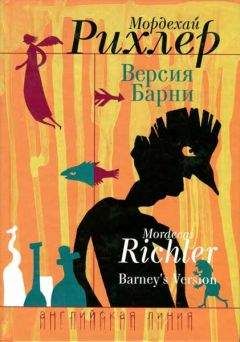Над каминной доской у меня и поныне висит один из Клариных чересчур многофигурных, болезненно-извращенных рисунков пером. Изображено на нем групповое изнасилование девственниц. Оргия. Разыгравшиеся гаргульи и гоблины. Радостно ржущий сатир в моем образе держит за волосы голую Клару. Она на коленях, а я пытаюсь всунуть ей в открытый рот, воспользовавшись моментом крика. Мне за это очаровательное видение предлагали аж двести пятьдесят тысяч долларов, но ничто не может заставить меня с ним расстаться. По мне, наверное, не скажешь, но на самом деле я сентиментальный старый болван.
Так что я приготовился к визиту феминацистки, как окрестил такого рода публику Раш Лимбо[151]. В носу, видимо, запонка, в сосках колечки и в каждой руке по кастету. Немецкая каска времен Второй мировой. Ботинки-говнодавы… Но нет, открываю дверь, стоит юная скромница, девочка-тростинка, темненькая, причем волосы не подстрижены под мальчика, а свободно лежат по плечам, да еще и мило улыбается, блестит бабушкиными очочками, вся такая изящная в платье от Лоры Эшли и туфлях-лодочках. Она сразу покорила меня тем, что восхитилась фотографиями звезд чечетки, развешанными у меня по стенам: Уилли Негритенок Ковен — создатель ритм-вальса; Козлоногий Бейтс, пойманный в полете; Братья Николас — честь и слава «Коттон-клаба»; Ральф Браун; молодые Джеймс, Джин и Фред Келли в костюмах гостиничной обслуги (фотография сделана в театре Никсона в Питтсбурге, год тысяча девятьсот двадцатый); и, конечно, великий Билл Боджанглз Робинсон, снятый в цилиндре, фраке и белом галстуке — фото что-нибудь года тридцать второго. Мисс Морган выставила магнитофончик, выложила пачку заготовленных вопросов, для разгона выступив с обычным «Как вы с Кларой познакомились?», «Чем она вас привлекла?» и так далее и так далее, и наконец пустила первую стрелу:
— Во всех источниках, которые я сумела отыскать, говорится, что вы, похоже, были безразличны к великим дарованиям Клары как поэта и художника и никак ее не поддерживали.
Мне было забавно, и я решил поддразнить мисс Морган.
— Позвольте вам напомнить о том, что сказала однажды в церкви Марика де Клерк, жена бывшего премьер-министра Южно-Африканской Республики: «Женщины незначительны. Наше дело обслуживать, лечить раны, дарить любовь…»
— А, так вы из этих, — потускнела она.
— «Если женщина вдохновляет мужчину на добро, — сказала мадам де Клерк, — он добр». Можно сказать — ну, хотя бы просто для затравки спора, — что Клара не выполнила это свое предназначение.
— А вы не выполнили свое по отношению к Кларе?
— Случившееся было неизбежно.
У Клары была боязнь пожара. «Это ведь пятый этаж, — скулила она. — У нас не будет никаких шансов!» Услышав неожиданный стук в дверь нашего номера, впадала в оцепенение, поэтому друзья приучились сперва объявлять о себе голосом: «Это Лео» или «Это Бу-ука! Страшный-ужа-асный! Кладите ценности в пакет и суйте под дверь!» Жирная пища вызывала у нее рвоту. Еще она страдала от бессонницы. Но если дать ей хорошенько хватануть винца — засыпала, что, впрочем, не было однозначно хорошо, потому что ей снились кошмары, от которых она просыпалась вся дрожа. Не доверяла незнакомцам, а друзей так и вовсе подозревала во всех смертных грехах. Все вызывало у нее аллергию — ракообразные, моллюски, яйца, шерсть животных, пыль и любой, кто не реагировал на ее присутствие. Месячные приносили головную боль, судороги, тошноту и приступы раздражения. То и дело надолго нападала экзема. В комнате под окном она держала заткнутый глиняный горшок, «кувшин Беллармини»[152], полный ее мочи и обрезков ногтей, — это чтобы отгонять злые чары. Пугалась кошек. Высоты страшилась ужасно. От грома ежилась и каменела. Боялась воды, змей, пауков и людей как таковых.
Читатель, я на ней женился!
Не потому что я в те дни был похотливым двадцатитрехлетним мальчишкой, а она такой уж пантерой в постели. Наш роман, какой ни на есть, постельными изысками не блистал. Клара, с ее маниакальным кокетством и скабрезным недержанием речи, со мной, во всяком случае, вела себя так же ханжески благонравно, как ее мать, о ненависти к которой она кричала на всех перекрестках; в том, что она клеветнически именовала «моими тридцатью секундами трения», она мне отказывала то и дело. Или стойко терпела. Или делала все от нее зависящее, чтобы убить всякую радость, какую мы могли выцедить из наших все более редких и никчемных соитий. Уж сколько лет прошло, а вспоминаются одни ее наставления.
— Нет, ты сначала вымой его горячей водой с мылом и, кстати, не вздумай в меня кончать!
Однажды она снизошла до того, чтобы сделать мне минет, и тут же ее вытошнило в раковину. Уничтоженный, я молча оделся, вышел вон и поплелся по quais[153] к площади Бастилии и обратно. По возвращении обнаружилось, что она собрала чемоданчик, сидит на кровати скрюченная и дрожит, вопреки многослойности шалей.
— Надо было мне уйти, не дожидаясь твоего прихода, — натужно проговорила она, — но мне нужны деньги, чтобы снять где-нибудь другую комнату.
Почему я не дал ей уйти, пока можно было сделать это безнаказанно? Зачем подхватил на руки, стал укачивать, успокаивать ее хныканье? Зачем раздел, уложил в постель и гладил по головке, пока она не сунула большой палец в рот и ее дыхание не стало ровным?
Весь остаток ночи я сидел рядом с кроватью, курил сигарету за сигаретой и читал тот роман про Голема в Праге — этого, ну, как его, он еще другом Кафки был[154], — а рано утром пошел на рынок и купил ей на завтрак апельсин, круассан и йогурт.
— Ты тот единственный мужчина, что для меня очистил апельсин, — сказала она, уже работая над первой строкой стихотворения, вошедшего теперь в великое множество антологий. — Ведь ты не выкинешь меня на помойку, правда же? — спросила она голосом маленькой девочки, которая подлизывается к мамочке.
— Нет.
— Ты по-прежнему любишь свою сумасшедшую Клару, правда же?
— Честно говоря, не знаю.
Почему в том моем тогдашнем опустошении я не дал ей сразу денег и не помог переехать в другую гостиницу?
Моя проблема в том, что я не способен проникать в суть вещей. Пусть от меня ускользают мотивации и побуждения других людей — это со мной давно уж, — но как можно не знать причины собственных поступков?
Потом несколько дней Клара была само покаяние — послушная, вроде бы даже любящая, даже в постели она всячески меня поощряла, и лишь напряженность, фригидность тела выдавала ее, говорила, что ее пыл наигран.
— Ах, как хорошо. Как чудесно, — повторяла она. — Как ты мне нужен там, внутри.
Хрена с два. А вот была ли нужна мне она, тут можно поспорить. Нельзя недооценивать того, как много в каждом из нас от заботливой мамки-няньки, даже если это такой вздорный, сварливый тип, как я. Заботясь о Кларе, я чувствовал себя человеком благородным. Доктором Барни Швейцером. Матерью Терезой Панофски.
Вот и сейчас — сижу с сигарой в зубах в два часа ночи за шведским бюро, за окном двадцатиградусный морозный Монреаль, и строчу, строчу, пытаясь наделить хоть каким-то смыслом мое невразумительное прошлое; нет, списать свои грехи на счет юности и наивности не выходит, зато перед мысленным взором как живые встают те мгновения жизни с Кларой, воспоминания о которых греют по сей день. Она была великой насмешницей, могла заставить меня хохотать над самим собой, а этот дар не следует недооценивать. Бывали у нас и моменты идиллически безмятежные, я их тоже очень любил. Лежал, например, на кровати в нашей крохотной гостиничной комнатенке и притворялся, будто читаю, а сам следил за Кларой, как она работает за столом. Нервная, дерганая Клара совершенно спокойна. Сосредоточенна. Увлечена. На лице ни следа так часто портившего ее смятения. Я был непомерно горд тем, как высоко ее рисунки и опубликованные стихи оценивали другие, более сведущие люди, нежели я. Предвкушал, как буду выступать ее хранителем, защитником. Как обеспечу ее всем необходимым для продолжения работы, освобожу от забот о сиюминутных проблемах. Отвезу домой в Америку и построю ей мастерскую где-нибудь за городом, с верхним светом и пожарной лестницей. Буду укрывать от грома, змей, кошачьей шерсти и злых чар. Буду греться в лучах ее славы — этакий преданный Леонард[155] с его вдохновенной Вирджинией. Однако в нашем случае мне придется быть настороже, а то как бы она, обезумев, не забежала вдруг в глубокую воду с карманами, полными тяжелых камней. Йоссель Пински (тот выживший узник концлагеря, что стал потом моим партнером) парочку раз встречался с Кларой и не разделял моего оптимизма.
— Всяких этих цирлих-манирлих в тебе не больше, чем во мне, — говорил он. — И зачем мучиться? Она мешугена[156]. Вали от нее, пока не поздно.