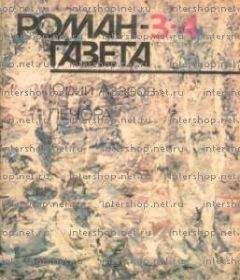— Молодчики Берии, Берии, Берии, Берии!!! — Вроде бы ничего особенного. Берия уже был насквозь прошит обоймой. Не было его. А вслух о нем говорить было не принято. Нельзя было соединять его с живыми. А у меня Новиков вдруг соединился с уничтоженным чудовищем. Соединился как молодчик его ведомства.
Председатель звонил в колокольчик. А зал настаивал: «Пусть говорит!» И мой третий, продолжал обвинять:
— Молодчики Берии, Берии, Берии!
Мои два «я», так сказать, учительское (всякие там методы, уроки, журналы) и человеческое (идеалы, интересы, мотивы), в согласие с тем посторонним пришли. С подмостков сошла, скорее, оболочка, в которой еще крепковато держался тот самый третий. Он сел рядом с кем-то. Ему шептали на ухо. Жали руки. Потом в перерыве подходили. Потом была включена музыка, и этот третий был приглашен танцевать. Пригласила Вольнова. Рука ощущала жесткость платья. Точно тела и вовсе не было. Сознание устроило небольшую регистрацию: «Отец Вольновой полковник. Она слывет в вольнодумках. Чего ей надо?» Третий танцует, а в груди уже, в уголочке, шевелится пепел, серая безжизненная масса — труха. И больно. И есть уже живое предчувствие: началось. Еще неизвестно, в какой форме, но уже началось. Этому третьему-то что! Он выпорхнул в свою безвестную идеальность, а ты живи, расхлебывай здесь, тяни, отрабатывай его безудержную вспышку.
Шамова подошла. Руку пожала. Улыбнулась. Старый эсер, как оказалось потом, никакой он не эсер, а так, обыкновенный учитель, тоже подошел, сказал доброе слово. Рубинский коснулся моего пиджака, тоже что-то поощрительное заметил. А мне уже жутко внутри, потому что я знаю, это уж точно, с сей минуты начинается иная моя жизнь.
— Ну и дал же ты… молодчики… ну и ну! — это, не то смеясь, не то сожалея, Чаркин заговорил.
Его слова уже не были ни поощряющими, ни сочувствующими. В них наметилась легкая пощечинка. Он точно этой пощечинкой отделился от меня. И сказана была эта фразочка в некотором отдалении от других. И у меня по коже мурашки пронеслись. А в голове вертелось одно слово: «молодчики». Слово, которое я никогда в общем-то и не употреблял. Это не мое слово. Не из моего лексикона, да и Новиков никак не подходил под это слово. Никакой он не молодчик. Толстый, плечи покатые, в синем отглаженном костюме, рукава почему-то длинноватые, розовые пальчики торчат, никаких краг и кожаных вещей не носит. Правда, вру, есть у него желтая блестящая кожанка, на подкладке в клеточку. И в таком контексте фразу я эту нигде не вычитал, значит, она, эта фраза — «молодчики этого самого».- вовсе не мне и принадлежит, а тому постороннему, который в меня вошел и сейчас уже витает бог знает где. Может, к кому другому подселился. А у меня осталось только щемящее что-то, будто ожог в тех местах, где сидел третий. Чаркин или кто еще тоже мне сказал:
— Это тебе не пройдет. Так Новиков не оставит…
А я молчал. Убогонько улыбался. Не суетился, не отрицал, а тихо слизывал с губ жалкенькую улыбочку, точно соглашался с тем, что Новиков, в кожаном пальто на серой подкладочке, отхлещет меня по лицу ремнем, не очень больно, ремень тоже из мягкой кожи сделан, но позорно, потому что я уже чувствовал, что не пошевельнусь, когда он по щекам будет хлестать. И только когда в глаз попадет, зажмурюсь, закрою лицо руками и под пристальные хохочущие взгляды окружающих убегу вон из моей школки, из моего класса, из моего театра.
И еще запомнился мне эпизодик. Дребеньков, завхоз наш, подошел ко мне. И взял лацкан моего новенького костюма (в Москве купил), и этот краешек лацкана на ощупь потрогал, точно ценность и качество материала проверял.
— Хороший костюм! — захохотал он тихо, точно придавливая чем-то внутри свой могучий смех. — Ну и носи себе на здоровье. — И закивал головой, замотал ею и ушел прочь.
Я потом думал над словами завхоза: чего это он с иносказаниями, сволочь, в такую минуту ко мне полез? Чего ему надо?
Видел я потом, как Дребеньков с Маркиным подошли к Новикову, что-то сказали ему, ко директор не стал их слушать, махнул рукой.
Так уж получилось, когда я уходил из школы, то оказался совсем один. Багровое, синее, зеленое северное сияние бродило по небу мощными волнами, точно это сияние мой третий там раскручивал наверху, чтобы еще и еще раз показать всем бесполезность этой холодной, горящей, испепеляющей красоты.
На переменке ко мне подошла Света Шафранова:
— Вы видели мою маму?
— Не видел я твоей мамы.
— Это неправда. Вы же здоровались с моей мамой.
— Это была твоя мама? Я думал….
— Все считают, что это моя сестра.
— У тебя очень красивая мама.
— Мама хотела с вами поговорить о ваших личных делах.
Света на слове «личных» запнулась.
— Мои личные дела улаживаю я сам, Света.
— Но…
— Никаких «но». И маме передай, будь добра, что в мои дела вмешиваться без моего согласия нельзя.
Света вспыхнула и убежала. У меня со Светой стали складываться несколько непонятные отношения.
Что-то от нее исходило такое, что меня не то чтобы настораживало, а потихоньку и тайно влекло. Я ловил себя на том, что, когда готовил уроки, думал над тем, как Света воспримет тот или иной текст, как поймет ту или иную идею. Я гнал от себя и такую мысль: «Что же, я для нее готовлю уроки?» Однако, входя в класс, искал глаза ее, и, когда находил, на душе делалось спокойно.
Первая по-настоящему острая догадка выскочила из груди и стукнулась где-то в мозгу, когда я готовил серию картин к пьесам о живописи Сурикова. Света играла Морозову. Красавицу Морозову в юности, в зрелые годы ученичества, Морозову бунтующую и, наконец, Морозову умирающую.
Я гримировал мальчиков. Девочки должны были гримироваться сами.
— У меня не получается! — подошла ко мне Света.
— Пусть поможет Оля, — сказал я, не отрываясь от лица Чернова, которого я разрисовывал под протопопа Аввакума.
— У нее тоже ничего не получается.
— Размазывается все…, — рассмеялась Оля. — Помогите.
— Ладно, занимайте очередь, — сказал я, прислушиваясь к себе. Что-то подсказывало не гримировать капризных девчонок. Нет бы проявить решительность, ан нет: становитесь в очередь!
Первой я загримировал Олю. Потом на место Оли села Света. И как только я коснулся се щеки, так ее лицо еще ярче засветилось, и от этого меня будто жаром обдало. Я накладывал тень за тенью, и по мере того как всматривался в лицо Светы, все больше и больше мне становилось не по себе, точно что-то щемяще знакомое было в ее лице, такое знакомое, что я боялся сознаться в этом знании. Руки сами по себе разглаживали кожу, смягчая тени у глаз, а сам думал и искал уже не в лице Светы, а в каких-то кладовых мозга, что же это мне напоминает и Света, и все, что происходит со мной.
Потом, двадцать лет спустя, Света мне скажет: «Какие у вас были руки». Я смотрю на одну из фотографий, где запечатлен момент гримирования. Я не. знал тогда, что человеческая рука обладает способностью дышать, угадывать мысли, передавать настроение, видеть ту главную суть человеческой личности, какую никаким глазом не схватишь, никакими извилинами не осмыслишь. Это потом я уже совершенно точно установил, что мои руки чувствовали силу цвета, отделяли холодные тона от теплых, различали полутона, четверть тона и мириады всяческих других оттенков. Это потом я уже предпочитал пользоваться не кистью в живописи, а пальцами, чтобы каждую клеточку холста ощутить, как я ощущал каждую пориику детской кожи. Это потом я уже понял, что детское лицо обладает удивительным свойством свечения, и тут уж никакой мистики нет.
Света сидела на стуле, и половина ее головы освещалась светом лампы, а другая, тыльная, что от ушей к затылку шла, была не то чтобы в тени, а в полусумеречном движении теней была. А переливчатый свет шел от лампочки, что светилась за окном и бросала сноп блекло-сиреневой прозрачности, и эта прозрачность смешивалась с морозной темью, и от этого получался нежный трепет молочной бледности, не серой бледности, а чуть подсиненной, какая бывает от молока, разбавленного водой. И вот этот тончайший контраст света и тени вдруг в одно мгновение ощутили мои руки, и они замерли на прохладном кусочке девичьей кожи.
— Что же вы остановились? — удивилась Света. — Скоро выход. Быстрее же!
А я не мог гримировать, то, что я увидел, было внезапным. Гладко зачесанные волосы отдавали не только блеском волос, но и ещё таким свечением, какое будто схоронилось на поверхности головы и чудом держалось: светился воздушный обруч вокруг головы девочки — этот тончайший радужный обруч был едва заметного голубого цвета, и эта туманно-голубая вибрация переходила в нечто золотистое. Я смекнул — это, должно быть, кончики волос оказались в поле электрического света, и они образовали своеобразный нимб. Нижняя часть нимба сливалась с явно оранжевыми полосками, которые закачивались снова голубовато-розовым кольцом — и этот воздушный полумесяц вибрировал — и был в таком изумительном согласии с нежно-белым колером лица, на которое я наносил грим…