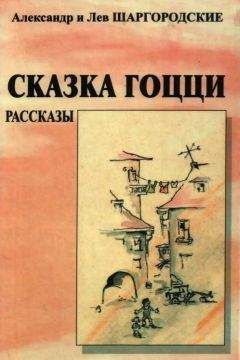И вот тут-то двери открылись, и на пороге появился сухой, чуть сгорбленный мужчина в костюме и бабочке. И в начищенных туфлях. И это несмотря на раннее утро. Глаза Зингера улыбались.
— Уж если вы взобрались на такую высь — надо входить…
Он ввел ее в большую комнату, всю увешанную портретами какой-то женщины…
— Когда с утра к вам является такая девушка, — сказал Зингер, — это верный признак, что день будет удачным… У меня есть чай и какао. Кофе у меня нет. Что вы предпочитаете?
— Виски, — неожиданно ответила Катя.
— Представьте себе, имеем! Но без содовой. Вы пьете виски с лимонадом?
— Чистый, — сказала Катя.
Зингер налил.
— Месяц назад, — проговорил он, — я провожал друга, — он зашел ко мне с этой бутылочкой. Я считаю, что у нее очень хорошее название: Белая лошадь. Это красиво… Потому что все мы немножко лошади…
Катя кивнула и залпом выпила бокал.
— У вас не найдется сигареты? Я, когда пью — всегда курю.
— Один порок порождает другой. Я, например, когда курю, начинаю думать…
— Это порок? — спросила Катя.
— Страшнейший, — ответил Зингер, — и сигареты у меня нет. Всю жизнь и курю трубку.
— Давайте трубку, — согласилась Катя. Она очень волновалась!
Если вы когда-нибудь признавались в любви, то знаете, что это такое…
— Вы любите трубку? — Зингер чуть заметно улыбнулся. — Какое дерево вы предпочитаете?
— Яблоню, — выпалила Катя.
— Из яблонь, к сожалению, трубок не делают. Я бы вам посоветовал из вишневого корня… Я люблю ее больше всего. Держите…
Катя взяла трубку и начала лихорадочно ее разжигать.
— Секундочку, секундочку, давайте сначала положим в нее табак. У меня, правда, крепкий, «капитанский», скорее для датского шкипера, но что делать. — Он любовно набил ей трубку.
— Вот теперь разжигайте.
Катя затянулась, выпустила дым прямо в лицо Зингера и, как бы скрываясь за этой дымовой завесой, выпалила:
— Я вас люблю!
И закашлялась. И долго-долго кашляла. Зингер смотрел на нее, как смотрят на мальчишку-проказника.
Катя перестала кашлять.
— Вы слышали, что я вам сказала?
— Слышал, — ответил Зингер.
— Почему же вы молчите?
— Дорогая моя, — сказал он, — вы хорошо посмотрели, кому вы это говорите?
— Да, да! Я люблю вас и хочу с вами…
— Куда? — перебил он. — Куда, девочка моя?
— В Израиль, — сказала она.
Зингер подошел к Кате и нежно провел по ее волосам.
— Волосы ее, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской…
— Что? — не поняла Катя.
— …Зубы ее, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни… Девочка моя, — сказал он, — я не еду туда жить. Я еду прямо на кладбище. Может, я и не попаду на Масличную гору, но я хочу, чтобы кости мои лежали в родной земле… А тут является юное создание, курит трубку и признается вам в любви!..
— Я знала, — ответила она, — я знала, что у меня не получится. Поэтому я и хотела уйти.
— Перестаньте дымить, — сказал Зингер, — это не очень романтично, когда женщина курит трубку. А к признаниям я привык. И не в молодости, а в старости. С тех пор, как я подал на выезд, мне признаются любви, в среднем, раз в неделю. Согласитесь, это довольно часто для моего возраста? Другой бы потерял голову, но я берегу ее для Святой Земли… Неправда ли, это адский труд, признаваться в любви, такому как я? Какая смешная вещь — клясться мне в любви до гроба. Во-первых, что это за любовь, на несколько месяцев или даже лет; а во-вторых им так хочется за меня, как мне в родную землю.
Он засмеялся и стал набивать трубку.
— Скажите мне, девочка, почему вы хотите бежать отсюда?
Она вдруг почувствовала, что может говорить с этим человеком искренне и просто.
— Марк Аркадьевич, — сказала она, — однажды я гуляла по городу и вошла в туннель. Автомобильный туннель, каких-то метров сто… Там было много машин, и где-то в середине я почувствовала, что мне не хватает воздуха. Мне нечем было дышать. Я страшно испугалась и побежала. Я бежала, как угорелая, на свет в конце туннеля. Боже мой, как я бежала… И потом долго не могла отдышаться. У меня сейчас такое чувство, что я посреди туннеля, в котором не видно конца…
Она отпила виски. Зингер долго смотрел в окно, на Литейный и на кусочек Невского, и на громыхающий трамвай, и на очередь за лимонами, а потом просто сказал:
— Хорошо, — сказал он, — раз уж вы меня так любите — хорошо. Я согласен. И мы с вами, невеста моя, пойдем в ЗАГС…
Катя вскочила и поцеловала Зингера.
— Только без этого, — буркнул он, — давайте без объятий. Приготовьте все документы, и завтра я вас жду у себя.
— Завтра? — переспросила Катя. — Простите, но завтра я не могу.
— Почему?
— Я сначала должна развестись…
— Вы замужем?!
— Да, — ответила Катя.
— И вы его любите?
— Да.
— И он остается?
— П-пока, ненадолго. Он не нашел себе еще невесты, понимаете? Но он найдет, он…
— Девочка моя, — перебил ее Зингер, — не расставайтесь! — Глаза его вдруг запылали: — Не расставайтесь, заклинаю вас! Только вместе. Вместе! А не можете вместе — так вместе здесь! В туннеле! Скажите мне, что вам свобода без него? Что вам радость без него, чей стан подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических? Ерунда!!! Это я говорю вам, потому что я бродил уже по этим горам, я шагал уже по земле ханаанской и дышал воздухом пророков, но не было мне покоя, потому что она была здесь. Здесь!
— Кто она? — спросила Катя.
— Что вам скажет ее имя? — ответил Зингер. — Можете называть ее Суламифь. Хотя звали ее иначе. Но если хотите — «Песнь Песней» Соломонова — это про нее. Потому что волосы ее, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской… Я уехал в шестнадцатом. В Палестину. И она должна была вскоре приехать. И мы должны были жить у самого Мертвого моря. Как наши пророки… Но она не приехала. Эта Суламифь стала комсомолкой, в красной косынке. Суламифь решила строить новое общество братства и справедливости. И я бросил все и вернулся к ней. На это болото!
Он вздохнул:
— Это сильная штука — любовь, если она может заставить вернуться сюда…
Он долго пыхтел трубкой и молчал. И Катя молчала.
— Я бегу тоже ради любви, — сказала потом она. — Потому что я люблю его, а он не может здесь жить…
— Я вернулся ради любви, — вздохнул Зингер, — вы бежите ради любви. Все ради любви. Но извините меня, девочка моя, если я вас спрошу, что вы будете делать там, когда он не приедет?
— Он приедет, — уверенно сказала Катя.
— Вы верите, как верил я! Как я ее ждал там! Нет поэта, способного описать это. А потом — приехал… И она — пусть для вас она останется Суламифью, — она не могла себе простить, что из-за нее я вернулся сюда. Всю жизнь она не могла себе этого простить. Она говорила, что все это из-за нее, что я пошел в тюрьму, потом на войну, потом снова в лагерь… И что из-за нее погибли оба наших мальчика… И она говорила «Посмотри, что наделала любовь! Полюбуйся ее делами!» И что я мог ответить? Ничего! Потому что любовь сильна, как смерть! Да, она прозрела быстро, она быстро сдернула эту алую косынку, не было поздно… Всю жизнь она считала себя виновной во всем. От этого она и умерла… Я так думаю… Вся наша жизнь здесь была стремлением туда! Туда! Но нас не выпускали. Нас не выпускали даже тогда, когда выпускали уже многих. Они не объясняли почему. И она заболела… Это была тоска. Тоска по тому, что она никогда не видала… Я так и не вывез ее…
Он смотрел в окно, и слезы медленно катились по его чисто выбритому лицу. Потом он указал на портреты, висевшие на стенах.
— Это она, — сказал Зингер, — я любил рисовать ее… Все сорок семь лет…
Катя долго смотрела на эту Суламифь, которая на всех портретах была такой молодой, и чем дольше смотрела, тем больше ей казалось, что Суламифь ей что-то говорит.
Зингер глядел на портреты взглядом влюбленного человека.
— О, ты прекрасна, возлюбленная моя, — тихо произнес он, — ты прекрасна…
И Катя вдруг ясно увидела, как женщина с портрета улыбнулась и сказала «О, ты прекрасен, возлюбленный мой, ты прекрасен…»
— Я поеду с вами, — сказала Катя, — я не хочу здесь жить…
…И прошло то лето. И осень. И зима. Весна и еще одна зима… Провожал их Саша и больше никто. Зингер взял с собой один портфель: фотографии и несколько книг. И еще многое. Но таможня не смогла этого обнаружить — все было в его старом и добром сердце…
У Кати в сумочке лежали тоже фото и губная помада…
Они поднялись по трапу и обернулись. Было начало весны. Светило солнце. Саша стоял уже далеко, на балюстраде, и махал им рукой. Катя поправляла волосы, чтобы незаметно стереть слезы.
— Он приедет, — сказал Зингер.
Самолет разбежался и полетел прямо, к веселому солнцу…