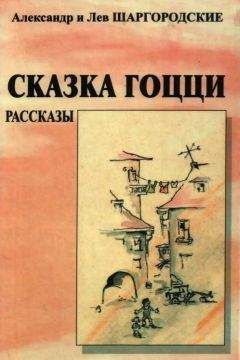— У нас никто не картавит! — отрезал министр и положил трубку.
По второй версии, папа тоже спросил о сыне, на что министр послал его «к матери».
Эта версия была более правдоподобной, потому что почти все министерство уже не раз побывало у той самой матери…
Третья версия была, безусловно, фантастическая.
По ней министр культуры сам позвонил папе. Он просил не беспокоиться, сообщил, что сын у него, что они пьют «Мартини» и именно сейчас подписывают договор на пьесу — Так долго? — удивился папа. — Трехактная! — якобы объяснил министр.
Как бы то ни было, но я звонил папе много лет — утром, днем, вечером, со студии, из ресторана, с совещания, с банкета, из Москвы и из тайги, где, как известно, с телефонами тяжеловато. Но папе было начхать на это — есть телефон или нет.
— Меня это не интересует, — объяснял он, — как прилетишь — сразу же позвони!
— Но я буду ночью!
— Ничего, мы подождем…
И я звонил ночью.
И слышал родные голоса.
А потом, когда устраивался в гостинице, звонил снова. И из приемной. И с пляжа. И перед вылетом. И с борта самолета, однажды…
И поэтому, когда мы эмигрировали и прилетели в Вену, я, даже не распаковав чемоданы, даже не взглянув на Оперу и не отхлебнув венский кофе, бросился звонить.
Я вошел в будку, бросил шиллинг и начал набирать наш домашний номер, такой знакомый… И вдруг вспомнил, что там уже никого нет, и квартира пуста, и пустые окна глядят на опустевший город…
А потом я пытался позвонить из Рима, с Piazza Venecia. И мама сказала:
— Кому ты звонишь, сынок? Там уже никого нет…
— Так, — ответил я, — привычка…
И еще сколько раз мне хотелось позвонить туда. Все эти годы. Зайти и набрать номер из любой нью-йоркской кабины. Или парижской, где-нибудь на Монпарнасе.
Мне хотелось знать — кто снимет трубку? Кто ответит? Кто живет в моей квартире?
Я часто думал об этом. И мне казалось почему-то, что там проживает полковник. Тот самый, который разрешил нам выезд и махал красным кулаком перед маминым носом.
— Ваш сын будет там заниматься антисоветской пропагандой! — орал он.
— С чего вы взяли, — отвечала мама, — он будет делать то же самое, что и здесь — писать!
— О чем? Что мы — прогнившее общество? Что у нас нечего жрать? Что у нас нет мяса?!
— А что — есть? — поинтересовалась мама.
— Молчать! — вопил тот.
— Я не майор, — резонно заметила мама, — не отдавайте команды.
— Вот-вот, — шумел тот, — даже не майор, а живете в квартире, в каких генералы не живут!
И он отправился на экскурсию по квартире.
— Вы только посмотрите, что творится, — возмущался он, — сколько шкафчиков, сколько антресолей, какой кафель! А даже не майор! И даже, наверняка, лейтенанта нет в семье — а какие обои! Где вы достали такие обои?
— По блату, — ответила мама. Что ей было терять?
— Вас следовало бы посадить! — прогнусавил полковник.
— Мы уже сидели, — заметила мама.
— Еще раз! Вы у меня не уедете, пока не сообщите адрес этого спекулянта!
— Я вам его подготовлю, — пообещала мама.
Полковник одобряюще кивнул и скрылся в ванной.
Мы стали ждать, не зная, что делать.
Он не выходил. Не подавал звука. Даже не спускал воду.
Прошло десять минут. Сорок. Час.
Мама начала волноваться.
— Говорят, даже полковникам бывает дурно, — сообщила она.
Мы молчали.
— Вы что, не верите? И даже генералам. Даже маршалы умирают! Она подошла к дверям ванной.
— Товарищ полковник, — позвала она.
Полковник не отозвался.
— Вам плохо, товарищ полковник?
В ванне стояла гробовая тишина. Утро после боя.
Мы устроили военный совет.
— Еще не хватало, чтоб он дал дуба в нашей квартире, — сказал папа.
— Вы знаете, что дают за убийство полковника?
— Что ты несешь! — сказала мама. — Кто его убил?
— Ты, — объяснил папа.
— Я?!
— Или он! Или я! Неважно! Они скажут, что мы! Евреи убили полковника при исполнении служебных обязанностей! На посту.
— Туалет — это пост? — удивились мы.
— Для настоящего полковника — да! Полковник всегда на посту, даже когда он на унитазе!
И тут же было принято решение ломать дверь и спасать офицера советской армии, если это еще возможно.
— За спасение полковника, — бросила мама, — нас наверняка выпустят.
Мы были готовы на все, даже на искусственное дыхание, даже на «рот в рот».
Взломав двери, мы все разом ввалились в ванную, опасаясь увидеть бездыханное тело на унитазе.
Но его там не было.
Оно находилось рядом. И дышало.
Полковник ползал по голубому кафельному полу и дышал, не в силах оторвать взор от голубого унитаза.
Мама склонилась над ним и начала совать ему в рот нитроглицерин.
— Что вы мне суете?
— Сердечное! Примите — вам станет легче, а мы уедем в Израиль!
— Мне хорошо, — улыбнулся полковник, — мне давно не было так хорошо! Где вы достали унитаз?
Надо сказать, что ванну мы отделывали, уже прекрасно зная, что уезжаем навсегда.
Почему носились тогда за голубым кафелем, почему доставали голубой унитаз, который был большей редкостью, чем синий кит?… Даже сейчас никто не может объяснить этого…
— Где вы достали унитаз? — мечтательно повторил полковник.
— Там же, где и обои, — ответила мама, — но это не имеет ни малейшего значения. Он — ваш!
Она обхватила унитаз обеими руками и начала отрывать его от фановой трубы.
— Не надо, не надо, — взмолился полковник, — оставьте его!
И тогда мы впервые поняли, что разрешение на выезд у нас в кармане…
А на следующий день в квартире появился генерал.
— Где тут ванна? — патетически произнес он и прошел. Наугад.
Он провел там все время до обеда.
Но мы не волновались.
Мы готовили фаршированную рыбу, которую подали прямо туда же — и жадное чавканье донеслось из ванны…
— Унитаз не сдавать! — приказал он, уходя.
— Слушаюсь! — отчеканила мама.
Она становилась похожа на майора…
Судя по всем происходящему — следовало ждать маршала. Но внезапно явился великий режиссер. Его все знали и любили в нашей семье.
Он был новатор и даже где-то реформатор. На его постановки за год нельзя было достать билета — а тут он принес их сам.
— Прошу любить и жаловать, — сказал он бархатным баритоном, — буду польщен видеть вас в императорской ложе.
Он поцеловал маме руку, папе крепко, по-мужски, стиснул ладонь, а меня нежно обнял, хотя мы даже не были знакомы, и, глядя прямо в глаза, трагически произнес:
— Ваши пьесы, ваши пьесы!..
— Что — мои пьесы?! — испугался я, хотя пугаться уже было нёчего.
— Как они ранят душу!
— Но вы же их не читали! И потом — это комедии.
— Только они меня и будоражат. Почему вы их мне не несете? Почему вы их рассылаете на периферию?.. Дайте мне их, дайте!
Он простер руки. Так просят хлеба.
— Умоляю!
Я побежал в кабинет и притащил все, что у меня было. Двенадцать пьес.
— Еще! — попросил режиссер.
— Больше нету!
— Обещайте мне написать!
Я пообещал, и реформатор скрылся в туалете.
— Простите мне мою странность, — извинился он, — пьесы я читаю только там.
Читал он их до утра.
Потом вышел. Его пошатывало.
— Шекспир! — произнес он.
Маме уже было все ясно.
— К сожалению, унитаз занят, — сообщила она.
Режиссер встал в позу Лира.
— Кем?! — трагически спросил он, словно разом терял Корделию, зятя и королевство.
— Военной хунтой! — отчеканила мама.
Ирония засветилась в его глазах.
— Вы не представляете, как у нас сильна творческая интеллигенция, — улыбнулся он. — До встречи в императорской ложе…
Мы уехали, так, к сожалению, и не узнав, чем закончилась битва прогрессивных и милитаристских сил…
Но я был уверен, еще тогда, что победит хунта, что придут полковники. Полковники, казалось мне, всегда сильнее генералов, потому что по интеллекту сразу же за ними идут грибы…
Я представил, как бродит полковник по нашей квартире, по моему кабинету, где я слушал Вивальди, писал комедии и видел в окно огромное блеклое небо, и кусок крыши, и очереди, и торговку пирожками.
— Беляши, беляши, — кричала она.
Очереди за окном были всегда, как и небо…
В них стояли бабки. А инвалиды подходили без очереди — видимо, они имели на это право, — и бабки время от времени били их. Бабки, которым после трех часов стояния на морозе ничего не доставалось, отчаянно били их!
Папа тоже имел право на «без очереди».
Он доставал то яблоки, то селедку, то орехи.
И каждый раз мы провожали его за покупками, как на войну.
И встречали, как с войны.
Бабки в очередях были опаснее «Першинг-2» — их удары точно ложились в цель…