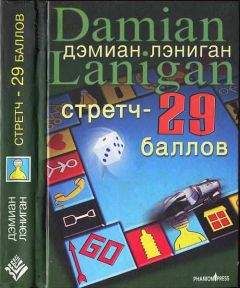— Нет. Ничуть не повлияли.
Сэди сидела в манящей близости на другом краю дивана. Она удивленно вздернула брови.
— Прямо не повлияли, я думаю. Это как с Лайзой Минелли — дочерью Джуди Гарланд. Другой жизни у меня не было, как получилось, так получилось. Но я вполне доволен. Не то что некоторые нытики — «я из неблагополучной семьи, милорд, поэтому и снасильничал старика». Фигня это.
— Очень неубедительно. — Сэди постучала шариком о зубы.
Я присвистнул:
— А зачем идти на поводу у избитых теорий? Почему нужно считать, что любой, у кого родители дурные или умерли, обязательно с каким-нибудь вывихом? Почему бы не поверить самому якобы пострадавшему? Некоторые могут оказаться вполне нормальными людьми.
— Ну да, конечно. Извини, я не хотела лезть в душу.
— Еще вина?
— Нет, спасибо.
Я набулькал себе еще четверть литра. Бокалы у Генри были устрашающих размеров, я мысленно напомнил себе, что надо быть поосторожнее.
— Вот черт. Чуть не забыл. Подарок!
Я сходил на кухню за шоколадом с апельсиновой начинкой и лотерейными карточками и вручил их Сэди, пряча смущение за напускной торжественностью.
— Поздравляю. Мой маленький сюрприз.
Сэди рассмеяласв, и мы стерли защитный слой на карточках. Она выиграла десять фунтов, что было как нельзя кстати. Сэди запустила руку в сумочку:
— А я тебе вот что принесла.
Карикатура на Барта в наряде садомазохиста, с висящим языком, сзади его поддевал на член Вельзевул. В придачу к рисунку — два пирога с мясом.
— Зря ты это. Особенно пироги, это ж какой изыск.
— Выбор был маловат.
— Я надеялся, что ты купишь средство для мойки автомобильных стекол. У них есть мои любимые сорта — «малиновый» и «мятный». Каждый день жалко пользоваться, но иногда можно себя побаловать.
Сэди рассмеялась. Наверное, у Гаэтано спортивная машина. Сэди была очаровательна, но, перехватив ее взгляд, я понял, что она далеко-далеко от меня — в смысле секса, романтики, любви и всего прочего. Я вдруг разозлился на себя за то, что хотел ее напоить. Господи, ну почему я не принимаю жизнь как есть? Почему я все время пытаюсь хитрить?
Через час мы поглощали рождественский ужин — пироги с мясом и печеные бобы с беконом в булках для гамбургеров. Курица не состоялась.
К тому времени, когда мы наконец выбросили ее в мусорный бак, она усохла до размеров зяблика и приобрела оттенок новорожденного поросенка. Сэди сказала, что температура в духовке была слишком низкая, я возражал, что дело — в отсутствии пипетки для поливания курицы жиром. Но в любом случае куриная жизнь была загублена напрасно.
Время шло к пяти, я успел нарезаться, Сэди же едва притронулась к вину. Смирившись с мыслью, что встречи разумов не произошло, я надеялся склонить ее потрахаться хотя бы из жалости. До ужина и за ужином мы говорили о ресторане и о том, что Сэди будет делать, когда закончит учебу. У нее была идея на пару месяцев съездить в Америку, но сначала пару раз напиться как следует. На такие темы говорить было просто, и, несмотря на тоскливое понимание, что вижу ее в последний раз, я уверенно держался на киле, лишь изредка замолкая от скорби.
На десерт мы распечатали шоколад с апельсиновой начинкой, и Сэди безжалостно повернула разговор назад к моей семье.
— Ты отца совсем не вспоминаешь?
— Почти никогда.
— Тебе не хотелось бы с ним встретиться, не теперь, так позже?
— Не-а.
— Ты очень уж быстро ответил. О чем ты сейчас думаешь?
Вместо ответа я отхлебнул вина. Кажется, у меня развивается алкоголизм.
— Наверняка ты хоть иногда о нем думаешь.
Я уронил голову на вытянутые руки.
— Может быть. Го-о-осподи. Не знаю я. Ты права. Иногда мне хочется с ним увидеться и помириться, типа спросить, куда ты, блин, пропал, чем занимаешься, почему от тебя нет ни слуху ни духу?
Сэди кивнула, явно побуждая меня к дальнейшим излияниям. И меня понесло.
— Я тебе скажу, что я думаю. Честно скажу. Я хочу отправиться с ним в пеший поход на озера, куда-нибудь в Лэнгдейлские горы, посидеть вместе, чтобы все вышло само по себе. Я не знаю, почему именно туда, мы там были несколько раз всем классом, мне кажется, что место идеально подходит для таких разговоров. Просто и просторно. Ощущение такое, будто можно все сбросить и начать сначала. Я хорошо себе представляю эту сцену. Отец сидит, наклонив голову и сжавшись в комок. В порыве раскаяния из него текут извинения за то, что его вечно где-то носило, что семья каждые полгода была на грани нищеты, за то, что он не мог обеспечить надежность, бросил мать, когда она заболела, да и раньше бросал, за отказ взять на себя ответственность, хоть каплю ответственности. Он исповедуется, потом начнет всхлипывать, обнимать меня и просить прощения. Я, конечно, буду тронут, но некоторое время еще подержу его на расстоянии — суровый такой, но справедливый, ну, ты понимаешь, — и когда у него внутри останется одна пустота, когда он будет сломлен и раздавлен, я сделаю великий щедрый жест. В моем воображении я подношу к его поникшей голове фляжку с крепким чаем, и когда он отхлебнет чаю и плечи его перестанут вздрагивать, я обниму его крепко-крепко и скажу, что все хорошо, что я всегда его любил всем невзгодам назло, и что мы можем все начать сначала. Тут пойдет дождь, возвращаться мы будем в молчании, но в добром, душевном молчании, и, дойдя до шоссе, мы еще раз обнимемся, скажем, что не станем больше поминать былое, вдвоем благословим маму, решим звонить друг другу каждую неделю, и… и…
Я поднял голову и заметил, что Сэди смотрит на меня то ли сосредоточенно, то ли с недоверием. В моих глазах пульсировали горячие слезы. Я налил себе вина смочить пересохший рот.
— Вот… Извини. Я редко об этом говорю, ты меня задела за живое. Пойду умоюсь.
— Да, конечно, пойди, — тихо ответила Сэди.
Я проковылял в ванную и посмотрел на свое отражение. На губах лиловые пятна, зубы в средневековой патине. Я как следует сполоснул лицо холодной водой и посмотрел еще раз. Какому близорукому ангелу придет в голову идея трахаться из жалости с таким доходягой? Твою мать. Твою мать! Твоюматьтвоюматьтвоюмать.
Я тер губы зубной щеткой, пока они не онемели, потом вернулся в комнату.
Сэди уже надела плащ.
— Ты куда?
— Я лучше пойду.
— Не уходи так рано, давай фильм какой посмотрим, что ли.
— Прости, Фрэнк, но мне правда лучше уйти.
— В чем моя вина?
Сэди досадливо качнула головой:
— Ну что ты, Фрэнк Тебе надо побыть одному, ты только посмотри на себя.
Уже два раза смотрел, третий не перенесу.
— Это все от пирогов.
Сэди прыснула. Она не притворялась, смех из нее так и бил ключом.
— Извини. Нехорошо смеяться.
— Нет-нет, смейся на здоровье!
И она смеялась. Смеялась так неудержимо, что согнулась пополам, уперлась руками в колени, и ее блестящие волосы касались пола.
— Извини, Фрэнк Ох, извини. Я не должна…
Непонятно отчего, но я тоже начал смеяться.
Сначала слабо, пофыркивая, но через десять секунд я взвизгивал, икал и закатывал глаза как младенец. Сэди разобрало еще больше, она упала на пол и забилась в конвульсиях. Дергающаяся голова и дрыгающие ноги делали ее похожей на куклу, через которую пропускали электрический ток.
Через три-четыре минуты мы успокоились и ощутили неловкость, которая всегда остается после чрезмерного хохота.
— А-ах. Фф-у-у. Это меня на пирогах заклинило. Я не над тобой смеялась.
— Ничего. Глупая шутка. Кстати, как ты поняла, я об отце на самом деле почти не вспоминаю.
Сэди хохотнула еще раз и замолчала. Поднялась на ноги, посмотрела на меня, приподняв подбородок.
— Мне действительно пора.
Потянувшись, она крепко поцеловала меня в губы, которые тут же закололо точно иголками. Я попытался привлечь ее к себе, но без особого напора.
— Ой, нет, Фрэнк. В другой раз.
Сэди повернулась и вышла из квартиры, на прощанье помахав мне рукой в перчатке.
В другой раз. Самая обнадеживающая, остужающая, освобождающая и закабаляющая фраза на свете.
Новогодняя ночь всегда была для меня пиком веселья со знаком минус. Но в этом году фальшивый новогодний пафос не вызывал щемящей тоски. Последние два года в сочельник я работал в «О’Хара» и наблюдал визгливое показное веселье, сохраняя изнуряющую трезвость. На этот раз Генри и Лотги уехали в Шотландию, Мэри, Том и Люси отпадали, а Сэди оставалась загадкой. Я решил взять отгул на несколько дней и провести их, как мне захочется.
30-го я встал после полудня и все три последующих дня занимался только тем, что пожелает душа. Весь день не снимал домашний халат, пил все подряд и устраивал жуткий беспорядок Я не брился и не мылся, не мыл посуду и не стирал белье. Разумеется, заглатывал огромные порции телевидения. Попробовал два новых сорта сигарет, названия в обоих случаях оказались меткими: «Ройялс» — дешевые, вычурно-безвкусные, изготовленные в Ганновере[62]; «Пэлл-Мэлл» — сухие, затхлые, с легким запахом дешевого одеколона, как нижнее белье высокопоставленного чиновника[63]. Я ел пиццу и шоколад поздно ночью и потом с легкой паранойей прислушивался к бурчанию в животе, становившемуся раз от разу все сильнее, музыкальнее и размереннее. Наконец, перенасытив сенсорный аппарат и отключив мозги, я предал себя в руки матушки-природы. Дайте мужчинам свободу, и любой из них поведет себя как я.