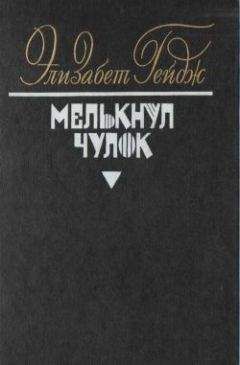– Понял, – кивнул я. – Понял. Только – зачем?
– Что – «зачем»?
– Зачем им все это?
– Есть одна ниточка. Тонкая-тонкая.
Он замолчал. Передо мной сидел усталый, в несвежей рубашке человек. Он засучил ногами, сбросил намявшие за день ноги туфли. Прокуренные желтые пальцы, мелкие, почерневшие от табака зубы. Он, конечно, хорохорился, но за его позой, за манерой говорить свысока проглядывался загнанный в угол человек, не знающий, откуда последует новый, быть может, самый опасный удар.
– Какая? – спросил я.
– А ты въезжаешь! – Он ухмыльнулся. – Въезжаешь! – И снова перегнулся ко мне. – За ним, – Саша ткнул в одну из фотографий Байбикова, – идет охота. Несколько покушений за последние два месяца. Причем – подготовленных. Но каждый раз что-то срывалось. Заряженная машина взорвалась чуть раньше, и его только легко ранило. Мудак снайпер вместо него снял другого. Одним словом, в рубашке родился.
Он разлил остатки водки.
– А мой лучший друг – нет! Давай! Мы выпили.
– Мой друг ушел из нашей системы, открыл охранное агентство, нанялся охранять этого козла и погиб во время одного из покушений. Понимаешь? Заслонил собой клиента. Лучший друг!
– Понимаю, – сказал я.
– Ни хера ты не понимаешь! Ни хера! Убили из-за певшего на митингах козла! Из-за перезрелого комсомольского начальничка!
– Разве сейчас не поет?
– Не поет. Ты что, не знаешь? Он теперь депутат. Затаился наш козлик, затаился. Даже собирался утечь за границу. Ранение помешало. Долечится – попробует еще раз. Знаешь, почему? Не знаешь? А мне мой друг рассказывал. Он у прежних соратников разжился кое-какими документиками. Ими можно устроить такую бучу, что многие будут просто рады получить пулю в жопу. Лишь бы больше не стреляли. Лишь бы только этим отделаться. Что в этих бумагах – не знаю, но ценят их высоко.
– Из-за бумаг его и хотят убить? – перебил я.
– Вернее всего, – кивнул Саша. – А если нет, то причин всегда немного.
– Например?
– Деньги. Женщины. Кому-то перебежал дорогу. Лезет не в свое дело. Много знает или знает то, что ему не положено. Какая тебе нравится больше других?
– Вторая, – сказал я. – Думаю – вторая.
– А я говорю – последняя. Мой друг намекал. Говорил – сладкоголосый, получив документы, от радости прыгал до потолка. Хотя…
Саша свинтил крышечку с бутылки виски и хитро, исподлобья взглянул на меня.
– Зачем тебе столько его фотографий?
– Для работы. Собираюсь поехать с ним в командировку. Он едет куда-то в горячую точку. Как депутат. С ним всегда ездят журналисты, фотографы. На этот раз поеду я.
– Ты же голых баб снимаешь! Зачем тебе горячая точка? Бабы надоели?
– Решил поменять профиль. Сменить тему. Мой агент посоветовал.
– Как его зовут?
– Кого?
– Агента!
Я назвал Кулагина. Саша налил мне и себе виски, мы чокнулись.
– Не сдохни раньше своей командировки, Генрих! – сказал он.
Я проснулся утром в бывшей своей комнате. Солнечный лучик, как много-много лет назад, с такой же неторопливостью, которой я не встречал больше нигде, ни в одном доме, полз по моему лицу. Он остановился на крыльях носа, заставил чихнуть, пополз дальше.
Да, мы посидели неплохо: спал я одетый, носки заскорузли и гордо топорщились на моих, словно начавших самостоятельное существование ногах.
– Эй! – позвал я своего ночного собутыльника. – Эй!
Мне никто не ответил. Тяжело перекатившись на живот, я придвинулся к краю кровати, встал на грозящие вот-вот подогнуться ноги, на полусогнутых продвинулся к двери в большую комнату. Никого! Только смятое покрывало на диване да подушка, хранящая очертания бедовой головы представителя клана Лешек-Сашек. Наш ночной разговор припомнился мне не сразу, а когда он все-таки всплыл в памяти, я почему-то, передернувшись, процедил сквозь непослушные губы:
– У, хитрый ментяра!
Зачем он мне рассказывал про своего погибшего друга, про какие-то там ниточки, про бывших гэбистов? Про документы?
Не для того же, чтобы помочь. Мой, правда, небольшой опыт общения с подобной публикой свидетельствовал: эти люди всегда на службе, а на таких, как я, им глубоко наплевать. Да, наплевать. Снимает, как он выражался, баб и к тому же, по его меркам, богат. Во всяком случае, богаче его самого, который якобы пашет с утра до вечера, а в ответ – ни признательности, не денег. Только шпыняние начальства.
Я добрался до кухни, напился из-под крана. Алкоголь взыграл во мне, в висках застучали молоточки, мне потребовалось немедленно сесть. Опустившись на табуретку, я тяжело вздохнул: он и напоил меня специально, наверняка хотел что-то из меня выведать, а меня же потом и упечь. От подобных мыслей мне стало совсем плохо: я вытошнил все бродившее в моем желудке в раковину.
Отмокнув под душем, я выпил холодного чая, достал из кофра записную книжку, нашел номер Байбикова. По характерному звуку гудка мне стало ясно, что у Бая стоит определитель. Трубку долго не поднимали, я уже собрался дать отбой, как что-то щелкнуло, и меня окутал густой и объемный голос.
– Да! Я вас слушаю!
– Будьте добры Максима, – сказал я.
– Простите?
– Будьте добры Максима Леонидовича, – поправился я.
– Кто спрашивает? – Густоголосый был строг.
– Его спрашивает Генрих Генрихович Миллер.
Возникла небольшая пауза, после чего тот же голос, но уже бойчее и как бы площе произнес:
– Минутку!
Минутка растянулась. Я достал сигарету. Курение на пустой желудок и с похмелья – великая вещь, способная затормозить время. Молоточки в висках работали так, словно во мне поселилась целая стахановская бригада. Табачный дым корябал горло.
Наконец Бай подошел к телефону.
– Привет! – сказал он с такой интонацией, будто мы с ним расстались два дня назад, а я обещал позвонить, но не позвонил.
– Ну, какие новости?
– Максим, у меня к тебе дело, – начал я, но тут молоточки, кажется, начали пробиваться наружу.
– Говори громче! – Бай всегда и сам любил говорить по телефону громко. – Тебя плохо слышно!
– У меня к тебе дело! – повторил я.
– Приезжай! Ты сейчас свободен? Свободен? Тогда записывай. – И он продиктовал адрес.
Зачем я к нему отправился? Что мною двигало?
Во всяком случае, не похмелье.
Удостовериться, что Татьяна действительно была им совращена? Дабы не – язык просто не поворачивается это произнести! – дабы не покарать невинного?
Чушь! Как будто мне было мало обертки от шоколада «Аленка»! Ее рассказ лег на благодатную почву. Я всегда хотел прижать моего дружка детства к ногтю. Каких только кар я ему не выдумывал! А тут он просто плыл ко мне в руки. Вернее, на кончик моего скребка. Если бы я полнее, тоньше владел своим даром! Я бы изничтожил его медленно, мучительно. Или оставил бы в живых, но – калекой. Я бы провел лоботомию, и Бай до конца своих дней прожил бы растением. Гнусным, вонючим.
Я был готов отомстить. Конечно, готов. Я же ее любил. Пусть я любил скорее не ее саму, а Лизу, но это было глубоко запрятано, закрыто, загнано. Я физически ощущал то, что Бай делал с нею. Я выстраивал кадры, словно просящиеся в лихой журнал для педофилов, переводил в зрительный ряд все то, что она мне рассказала, и с какого-то момента, с того, когда я полностью въехал в ее рассказ, сжился с ним, мне начало казаться, что это меня прикармливал Бай, меня он приголубливал, растил, опутывал. Что это меня он брал покататься на машине, для меня доставал билеты на спектакли, меня знакомил с небожителями-актерами. Мне дарил красивые книжки, меня кормил мороженым и шоколадками. В конце концов это меня он завел к себе домой, поговорил о том о сем, почувствовал, что я уже полностью в его власти, взял мою руку – в цыпках еще, с царапинами после моих попыток все-таки заставить любимого сиамского кота гадить непременно в унитаз, – взял мою маленькую руку и положил на выпростанный из ширинки член, огромный, жилистый, с пунцовой блестящей головкой. Что это меня потом тошнило, а он стоял возле с полотенцем – заботливый, нежный, довольный – и, кружа вокруг да около, выпытывал: ведь я никому не скажу, ведь я не хочу, чтобы мы перестали видеться, ведь мне понравилось, а тошнит меня всего лишь с непривычки. Что это я, я, черт побери, ответил: нет, никому не скажу, хочу с ним видеться, хочу, и мне понравилось, понравилось, понравилось…
Я взял листок с адресом, вложил его между баевских фотографий, перетасовал их как колоду карт. Листок выпал, спланировал на стол.
К горлу подкатывала тошнота. Я заглянул под стол, вытащил оттуда бутылку из-под виски. На донышке немного плескалось, совсем чуть-чуть. Я запрокинул бутылку. Несколько капель упали на язык, и меня – я еле-еле успел добежать до туалета – вывернуло наизнанку.
Я вытер губы тыльной стороной руки, сел на кафельный пол, прислонился к стене. Собственно, а что было необычного в ее просьбе? Только одно: то, что отец поделился с ней своей тайной. Я попытался вспомнить его слова, сказанные там, на набережной, за несколько минут до его смерти. Что-то подобное он наверняка выплеснул и на Татьяну. Она поверила. И попала в точку. Ее тоже можно было понять: мой отец, а теперь я были ее последней надеждой.