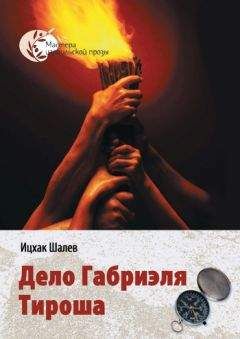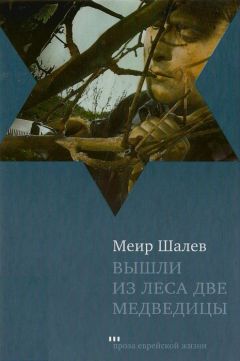И тут он обратился к Айе:
«Может быть, ты хочешь все взвесить. Ты не обязана решить сразу же!»
«Я уже решила, – ответила она, словно бы медленно подбирая слова, – и все же не могу воздержаться от некоторых размышлений».
«Может, ты поделишься ими с нами?»
«Да, – сказала она, – вот, мы снова даем клятву, и забываем, что давали клятву «Хагане» всего лишь несколько месяцев назад. И тут я подумала: сколько еще клятв в будущем мы будем нарушать?»
Лицо Габриэля побледнело.
«И еще, – добавила она, с трудом выдавливая слова, – может, потому, что я девушка, мне несколько претит эта мысль… убивать, и как убивать, и как быть убитым другими, как будто в мире нет никого, кроме убийц и убиваемых».
Дан и Аарон с недоумением посмотрели на нее.
«Когда мы вернемся в гимназию», – спросила она Габриэля, как бы прося у него защиты, – когда мы услышим урок истории, подобный тем урокам в прошлом, который вы давали нам от звонка до звонка?»
И тут Габриэль дал ответ, который я и Яир не забудем до конца своих дней.
«Время учить историю, и время – ее творить! – отчеканивал он слово за словом. – Время – толковать факты, и время – их создавать! До сих пор мы толковали факты. Настало время их создавать!»
Я вгляделся в его лицо и увидел на нем «разводное свидетельство», которое он давал преподаванию. Об этом говорила напряженная решительная складка между его губами и подбородком. Он был великим учителем, но перешел от разъяснения материала к руководству действиями. Думая сегодня о нем, я склоняюсь к тому, чтобы определить его, как практического историка, в отличие от кабинетных, не отрывающихся от стола, знающего связь между первоисточниками, описывающими прошлое, и настоящим, требующим боевых действий. А иногда приходит мне на ум другое определение: вооруженный пророк. Так или иначе, он невероятно далек от старичков-коллег, с которыми сидел в учительской, и еще более далек от молодых учителей наших дней, которые лечат худобу их душ и пророчеств ложкой рыбьего жира педагогики, получая за это академические степени. Я всегда ненавидел эту пастеризованную педагогику, лишенную микробов неверия и веры, гладкую, как щеки евнуха, от рождения, уверенную, что является средством спасения вот уже сто лет.
Каждый раз, когда я слышу, насколько ныне учитель не влияет на учеников, я размышляю о Габриэле, и тоска снедает мою душу. Те, кто насмехается над профессией учителя, не знают, кем он может быть для ученика, и какая удивительная сила может течь по линиям высокого напряжения от кафедры к ученической скамье! Но для этого учитель должен быть выше всякой методики, не по званию, а по характеру.
Габриэль приказал нам выйти из «Хаганы», но не сразу всем, чтобы не вызвать подозрение в сговоре, а по одному, с небольшими интервалами. Естественно, не открывать истинную причину ухода. По сути же, мы вообще не объявляли об уходе, а исчезали тайком. В конце концов, мы были рады тому, что наше исчезновение не вызвало особого внимания, быть может, потому, что в эти дни вся рота «связных» вернулась к занятиям в гимназии, согласно приказу, и деятельность в «Хагане» уменьшилась, чтобы дать ученикам нормально завершить учебный год и предотвратить полный распад школьных рамок.
Мечты Айи слушать снова уроки истории Габриэля Тироша осуществились. Ей, как и многим из нас, семиклассников, надоело безделье, мы соскучились по ежедневной учебе, по домашним заданиям. Мы даже были согласны с тем, что времени для развлечений оставалось все меньше. Вообще, я вдруг понял, что стремление к серьезной деятельности, которая может заполнить собой жизнь, стало для нас важнее поиска удовольствий.
Лишь тот способен достойно заниматься делом, требующим полной отдачи, всех душевных и физических сил, кто смолоду готов к нему. А развлечения, от которых ждешь столько приятного, занимают, как правило, не так уж много времени. Как это не странно на первый взгляд, молодежь благодарна тому, кто не оставляет ей даже одного часа для бездеятельности.
Однако мы вернулись на школьные скамьи, уже не такими, какими их покинули. К огорчению учителей, взросление привело и к определенному ослаблению интереса к учебе. И не то, чтобы мы манкировали учебой и приготовлением домашних заданий. Казалось, в нашем отношении к учителям появилось пренебрежение, словно уровень резко снизился и лишил их истинного авторитета.
Быть может, это случилось потому, что ученики столкнулись с военной субординацией, которая была намного жестче школьной. А может оттого, что им довелось участвовать в событиях, более важных, чем учебные предметы.
Я же это объяснял по-своему. Дни и ночи, которые мы проводили вне семейных и школьных рамок, сделали из нас «сабр» со всеми их признаками и оттенками. И на фоне культового отношения к «сабре», уроженцу и защитнику еврейской Палестины, особенно ярко проявлялась «галутская» психология учителей, и стена отчуждения между нами и ними становилась все непреодолимей. Мы вернулись в те же классные стены с множеством новых выражений, острых словечек, опытом влюбленностей и мужества, о котором рассказывали нам старшие товарищи, и встретили пожилых евреев, которые проповедовали нам устаревшие правила морали старыми голосами. Можно было заранее себе представить результаты этой встречи.
Так что работы у Габриэля Тироша было невпроворот. И главным его делом было задержать агрессию, направленную против доктора Шлосера, господина Дгани, Карфагена и других учителей. Сам он ничуть не пострадал от нашего «сабрского» пыла. Наоборот, к его образу воспитателя присоединился ореол командира «Хаганы». И хотя рота не успела почувствовать его командирскую руку, никто из учеников не забыл тот неожиданный таинственный вечер, когда, стоя перед ним по стойке «смирно», они были приняты в его роту.
Помню, как он разбирался с каждой жалобой учителей ему, как классному руководителю, как выгонял виновных из класса и впускал только после того, как они приносили извинения тому или иному учителю. Я удивлялся, откуда он берет силы педантично разбираться с каждым случаем, ведя тщательные записи в своем блокнотике и отмечая меры наказания, в то время как я знал, что главные свои силы он отдает другому делу. Меня изумляло, с каким упрямством он старается добиться от нас отношения к его коллегам точно такого же, как к нему, вероятно, не зная, что произношение ими ивритских слов с ашкеназско-идишским акцентом было достаточно, чтобы вызывать наши усмешки и отдалять их от нас. В период «бури и натиска» они проявляли близорукую умеренность, не видя, что на их глазах происходит революционное изменение манеры поведения. Они относились к нам, как к молодежи, воспитывающейся в каком-то европейском интернате, далеком от пустыни, хамсина и крови. Все, что они нам говорили в этот период стрельбы и поножовщины, исчерпывалось выражениями типа «Мудрецов изречения несут покой и излечение» или «Когда я ем, я глух и нем», с которых, казалось, сочилось чистое оливковое масло. Сегодня я размышляю о них с пониманием и милосердием. Они пытались сохранить старомодную культуру и уважение в окружающей нас пустыне. Но не сумели они понять, что молодежь, сидящая перед ними стоит перед экзаменами, стократ более тяжкими, чем экзамены по литературе и грамматике, и не чувствовали, что это вовсе не молодежь, готовящаяся поступить в университеты Швейцарии и Германии. И понял это лишь один Габриэль Тирош, хотя был выходцем из Берлина. Именно он, чужеземец, служил нам образцом и примером личности, которая стоит у истоков преобразования страны Израиля.
Мы не спрашивали, где он достал пистолеты и патроны, которые в один из вечеров раздал нам. Мы поняли, что он где-то их купил для нас, ведь до этого собрал с нас деньги. И еще мы поняли, что покупка оружия связана с теми его таинственными поездками в канун субботы за город, в место, которое стало нам известным спустя много времени. Мы уже были научены не допытываться у него ни о чем, и уважать его молчание.
«Отныне у вас есть ваше личное оружие. Следите за ним, как положено».
Он дал нам несколько указаний относительно хранения оружия, чистки и смазки. Со священным трепетом получили мы из его рук эти твердые и блестящие орудия защиты и нападения. Свой пистолет я спрятал в старом толстенном словаре русского языка, вырезав его нутро, и заложил на самый верх книжного шкафа, где, я был уверен, до него никто не дотянется. Мой отец, который не меньше отца Аарона был фанатиком иврита, поклялся мне, что рука его не коснется этого словаря. Я полагался на эту клятву. Опасался лишь матери, которая могла это обнаружить, ибо несколько раз в году вытаскивала книги из шкафа, чтобы их проветрить. Но у меня с мамой были такие отношения, что я мог бы спрятать в доме пушку, объяснив, что это для меня важно. Патроны я завернул в бумагу и спрятал в ящике моего письменного стола, где был такой беспорядок, что там ничего нельзя было найти. Снова я должен отметить водораздел между зимой и весной, когда мы проходили занятия по обороне, от абсолютно нового периода, когда, наконец, дано было нам сделать то, о чем давно мечтали, атаковать врага нашим оружием. Но прежде я расскажу один эпизод, который сейчас вспомнил.