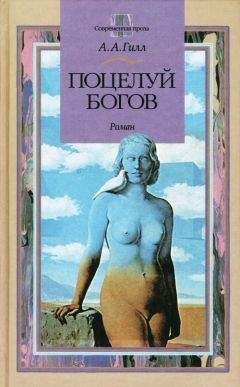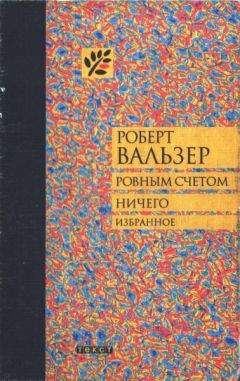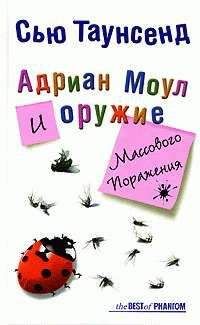Поэзия — самый эфемерный творческий процесс. Кто знает, как он живет и где зарождается? Чем питается и каковы его естественные привычки? Он существует в полумистическом пространстве собственного воображения, там, где обрывается всякая дорога и куда рискуют забрести лишь одинокие охотники или дичь. Нельзя научиться опознавать поэзию или ее генерировать. Никто не посещает школу поэзии и не получает степень по стихам. И все же поэзия существует — на скальпельно-остром срезе культуры: замечательное, блистательное, сияющее явление. Стихи происходят издревле. Поэзия существовала задолго до первого зарегистрированного прозаического произведения. Она сродни и танцу, и ритму, и памяти, уникальной потребности нового существа с напуганным разумом и торчащими в стороны большими пальцами рук, существа, кому дана несравненная способность воображения за пределами горизонта и сумерек и желание запомнить и передать другим существо вещей, то настоящее зерно, что таится под плевелами. Стихи — модели предметов, которые улавливает только внутренний глаз следопыта. Стихи — это споры памяти. Но память к поэту Джону Дарту никак не хотела возвращаться.
Джон понимал, что эти несколько свободных страниц — дневник путешествия, которое он больше никогда не предпримет. Что он так долго бился, чтобы стать поэтом и творить поэзию, но в эти недели свернул с изрядно истоптанной лирической тропинки в лес и обнаружил поэзию, дико разросшуюся на корнях и загнивающем торфяном мхе его собственной жизни. Он мог никогда больше не обнаружить этого места и с грустью сознавал, что не хочет идти и искать.
Джон взял грушу и внимательно на нее посмотрел. Осмелюсь ли я съесть эту грушу? Ничто не пробьет сахаристой оболочки его дня. Депрессия и отчаяние подобны боли, голоду и холоду, чувствам, которые невозможно воспроизвести из счастья и согретости. Значит, существовало поэтическое правосудие.
Джон спустился к бассейну. Нагая Ли лежала на животе в тени. Он поцеловал ее в плечо.
— Удачное утро, милый? Много рифм и смыслов? А как насчет ритма, того, что в кровати?
Джон провел ладонью по ее глянцевой заднице.
— Собираюсь посвятить твоей попке сонет.
— Только сонет? Я рассчитывала на сагу. Хочешь искупаться?
— Чуть погодя.
Ли подошла к бассейну, соскользнула в воду и поплыла, ударяя по воде короткими гребками и высоко выставляя над поверхностью голову, словно несла на ней невидимый поднос.
На другой стороне Лео сгреб пятерней низ своих плавок и кричал в мобильный телефон:
— Мне нет никакого дела! На хрен сдалось! Можешь задуть самому себе! Именно! Самому себе! Говори по-английски, говнюк! Да хоть затрахайся. И засади своей сестре и своей мамочке. То, что слышишь, вотр мер, засранец! Что? Нет уж, маши в собственное спидоносное очко! Эй, Джон, как будет по-французски: «Чтоб твоей дочери бешеные ослы в манду нассали»?
— Э-э… Ле потаж дю жур э роньон, мон брав.
— Не бросай трубку, говнюк. Как тебе понравится вот это: ле потаж дю жур э засранный роньон, мон брав. Ба! Мне кажется, он заплакал. — Лео швырнул телефон. — Что за страна! Долбаная страна. Сыр здесь воняет, как манда, а манда благоухает розами.
Телефон зазвонил опять.
— Да, Морис. Нет, страна долбаная. Их сыр пахнет мандой, а манда благоухает розами. Да, только что это понял. Как там с моими деньгами?
Джон наблюдал, как показывалась над водой и исчезала аккуратная промежность плывшей по-лягушачьи Ли. Остальная ее почта осталась разбросанной рядом со стулом. Он взял листок разлинованной школьной бумаги.
«Дорогая мисс Монтана, я вас люблю. Я видела все, что вы сыграли. Наверное, вы получаете много подобных писем, но я в самом деле хочу походить на вас. Мне семнадцать лет, и сейчас я лежу в больнице. У меня рак и выпали все волосы. Я попросила себе парик, такой, как ваша прическа. Я чувствую, как вы сражаетесь с моей опухолью. Уже поздно, завтра у меня повторная операция. Знаю, все будет хорошо, потому что вы со мной. Я вас люблю и чувствую, что вы меня тоже любите».
Подписано «Сьюзен».
Ниже другой рукой проставлены буквы ОФ и начертана птичка.
Джон взял другое письмо, напечатанное на допотопной пишущей машинке. Буквы «О», «Р» и точки продырявили тонкую бумагу.
«Дорогая мисс Монтана! Твоя книга прекрасна! Я купил ее в магазине. Ты настоящая задница — я это в хорошем смысле слова. Но в Голливуде у тебя вряд ли со многими выходит — они там все пидоры-спидоносцы. А я так понимаю, тебе это нравится. По твоей внешности — тебе бы хороший американский хрен. Я мужчина. И у нас, как говорится, получилась бы отличная спевка. Мне двадцать шесть лет, рост шесть футов два дюйма, служил в армии, постоянно работаю. Размер груди — 50, накачанные бицепсы — 26, шея — 20. То, что тебя интересует больше всего: на взводе 13,5, а так — 7, чистейшее американское мясцо. Я брею волосы по всему телу и гладкий от яиц до бровей. Обычное дело со мной: я тебя приглашаю, хотим пойти перекусить стейком в каком-нибудь замысловатом местечке. Но ты говоришь: „Почему бы не поесть здесь?“ Хватаешься за моего старикана. Мы валимся на кожаный диван, и ты ешь его, пока совсем не задохнешься. А потом мы открываем пиво, закусываем картофельными чипсами и смотрим порнуху. Ты спрашиваешь: „А ты бы так мог?“ — и я отвечаю: „Конечно“ — и затрахиваю тебя до полусмерти, потому что ты этого хочешь. Затем целую и говорю „спокойной ночи“, ты ведь не привыкла, чтобы с тобой обращались, как с леди. В предвкушении свидания, Энди Мисков, из моряков (Почетная демобилизация). 1356, Нейл Армстронг-роуд, Кулидж, Индиана, 4580. Телефон: 234-78-50 (спросить Энди, пульверизаторщика). Постскриптум: в резинке нет никакой необходимости, потому что я на самом деле чистый и никогда не пялился с мужиками в задницу».
Опять ОФ и галочка внизу.
И еще третье.
«Сука, величайшая из шлюх, etc. Думаешь, можешь резвиться, смеяться над Господом и заниматься сексом прямо на улицах (плакаты, ТВ, эфир и т. п.)? Но будешь вечно отвечать в аду и т. д. Ты, жидовские банкиры, и политики, и Имран Хусейн, и все врачи и т. д. Я стану орудием мести. Бог вырежет тебе утробу ножом и моей рукой швырнет в собачье дерьмо, так что ты не родишь никакую мразь, а сама подохнешь. Сука. Шлюха нечистой грязи. Я встретил тебя 12 июня в 11 часов на Голливудском бульваре у дома 436. Шел за тобой и знаю, где ты обитаешь во грехе. Меня никто не заметил, поскольку Господь укрыл меня крылом, но я тебя видел. Следую за тобой. И зрю по сю пору».
— Фанаты. Правда, мило? — Ли принялась растираться полотенцем.
— Извини. Ты не сердишься, что я прочитал?
— Нисколько. Таких много. Большинство мне не пересылают, разбирается моя канцелярия. Направляют только те, с которыми, полагают, я должна познакомиться. Или смешные.
— А вот это по-настоящему страшное.
— Того, кто хочет выпотрошить меня поганым ножом? Он пишет постоянно, а мы передаем его послания полиции.
— И тебя все это не угнетает?
— Временами. Но я с этим сжилась. Ко всему привыкаешь.
— Но они ненормальные. Сексуальные фантазеры. Девочка считает, что ты избавишь ее от рака.
— Н-да… что ж, может быть, смогу…
— Ли!
— Ты прав. Больные и ненормальные. Страшно. И их тысячи. А я одна кинозвезда. Вспомни о Голливуде. Подумай, что ежедневно представляет собой калифорнийская почта. Тысячи и тысячи жестоких угроз, заумных фантазий, просьбы, мольбы, откровения. Каждый день целый том откровений — с иллюстрациями: картинками, уродливыми фотографиями, шариковыми членами во рту, кинжалами, мясницкими ножами, иголками, полароидными снимками тел. И люди, которые все это засовывают в конверты, заклеивают, штемпелюют и рассылают. Моему секретарю приходится надевать бронежилет и пользоваться перчатками, когда он разбирает корреспонденцию. Мир захлестнул психоз. Вмешательство в дела почты — федеральное преступление, а превращение почты в клоаку — преступление против личности.
— А ты не чувствуешь себя ответственной?
— За что, Джон? В чем моя вина? — Ли взяла письмо с угрозами. — Жертва издевается над ловчим? Ну конечно.
— Нет. Я имел в виду не это. Я имел в виду… как бы это выразить… всю проблему звезд и славы. В ней проявляется принцип магнита — печная вытяжка злобы, разочарований, гнева, уныния. Тяга только их усиливает и разжигает.
— Бог его знает… Ты хочешь сказать: не было бы дичи, не было бы и охотников. По принципу: не было бы машин, не было бы пьяных водителей. Но пьяницы все равно бы существовали. Нет, столь многого я не требую. Просто хочу петь, делать свое дело.
— Это можно сказать и о твоих корреспондентах — они делают свое дело. Одни очаровывают, другие поддаются очарованию.
— В любом случае смахивает на милейшего Тони Перкинса[39]. Как-то корреспондент меня спросил: «О ком вы думаете, когда играете?» Я понесла какую-то околесицу, вроде того, что о мамочке. Но правда заключается в том, что я стараюсь ни о ком не думать. Не смотреть на публику во время представления, на толпу у кинотеатра после просмотра. Все они мне кажутся слишком нормальными, слишком обыкновенными. Но эти люди знают обо мне все — больше, чем я сама. Они хранят альбомы и оклеивают свои мансарды моими фотографиями. Приходят домой, вынимают из себя тампон, кладут в пакет из-под «Джиффи»[40] и посылают мне. А потом ведут себя как ни в чем не бывало — смотрят телевизор, звонят друзьям, заваривают детям чай. Парни дрочатся, глядя на мои фотографии, — это еще ладно, это естественно. Не понимаю, когда какой-нибудь тип запирается в ванной и тужится над коробкой из-под сандвичей, чтобы послать посылку с дерьмом девице из мыльной оперы, которая всего-то и протараторила: «Брэд, я беременна неизвестно от кого». Или человек находит дохлую крысу в гараже и думает: отправлю-ка я ее Ли Монтане — она поет песню, которая нравится жене. Никто не говорит о славе, насколько она страшна. На улице пугают одинаково все: и те, кто тебя любит, и те, кто ненавидит. Обожание дает повод самочинно захватывать права на мою жизнь. Если я меняю прическу, тысячи женщин желают мне, чтобы я подохла от рака, потому что я их оскорбила: видите ли, они хотели походить на меня. Поверь, только знаменитые люди понимают, в каком ненормальном мире мы живем. Обычно считают, что большинство народа — люди как люди, а свихнутых — раз-два и обчелся. Но я точно знаю, что под обманчивой внешностью скрываются душевнополоумные, извращенцы, маньяки, эксгибиционисты. Мои слова тебе покажутся параноидальными, но ты ни разу не стоял на краю сцены в свете прожекторов.