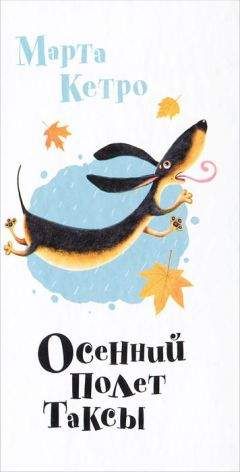Я ходил вечерами гулять по то мокрому (тогда он враждебно хлюпал), то замерзающему (тогда он враждебно хрустел) парку и уже почти надеялся, что на опасность нарвусь наконец сам (вот как судьба на живца выманивает нас из наших домов), и эти муки прекратятся, прервутся покоем морга или хотя бы забытьём больничной палаты.
Не было, скажут, ничего проще, чем набрать давно выученный номер. Даже если Херасков, живой и здоровый, ответит сам (как, впрочем, он и делал во все те немногие, бережно сосчитанные предыдущие разы), и по его удивлённому голосу я пойму, насколько назойлив, глуп, неуместен и неоправдан этот звонок был, я всё же достигну своей цели и смогу убедиться, что волновался напрасно. Но, далее, я знать не знал, живёт Херасков один, с женщиной или в кругу большой семьи (мало ли что в предыдущие немногие разы он подходил к телефону сам); что делать, если женщина или большая семья существуют и трубку возьмёт кто-то из них, и что им говорить, если — вдруг — я въяве услышу ужасную новость… В этой точке размышлений я леденел от ужаса и торопился принять снотворное, расплачиваясь кошмарами и за него, и за свою трусость. Когда я решился и назначил себе крайний срок, и срок этот почти, почти истёк, он позвонил сам.
— Приветик, — сказал он буднично. — Как жизнь?
Я не мог признаться, что моя жизнь скоро как месяц дополнительно отравлена страхом за него. И я не был его подружкой, чтобы капризно (или как это делается) поинтересоваться, почему он, скоро как чёртов месяц, не вспоминал обо мне. С жизнью всё было в порядке, если под нею подразумевать вещи, о которых можно говорить: дела, здоровье, погода. (Дела!!! Здоровье!!!) Так я и доложил.
— А я… — сказал он и задумался. Видимо, тоже в уме отсортировывал подразумеваемое от неудобосказуемого. — Я тоже по шейку в шампанском. Новое что-нибудь посмотрели?
Я посмотрел «Другой мир». В зале повторного показа, там, где без системы показывали то Клузо, то Ромеро. Но признаваться в этом, да ещё в том, что фильм мне понравился, что мне от фильма стало так легко, словно всю свою счастливую потайную жизнь я провёл в войне вампиров и оборотней на стороне оборотней, признаваться было нелепо. А не признаться — предательством по отношению к оборотням, существам с такой же порченой, как у меня, кровью, такою же неутолимой тоской по цельности.
— Так это же старый фильм. Его и по телевизору сто раз показали.
— У меня нет телевизора.
— Вот это мудро. А вы за кого, вампиров или оборотней?
Теперь предстояло объяснять, чем оборотни предпочтительнее вампиров. Я даже не удивился, что он сформулировал вопрос именно так, ведь нормальный человек должен быть против и тех, и других, но дело в том, что нормальным людям в «Другом мире» места не было, оттого-то он меня утешал. Но говорить о том, что тебя по-настоящему утешает — даже с человеком, которому почти веришь, к которому привязался, — нельзя, иначе лишишься и утешения, и друга.
— А может, вы что-нибудь свежее порекомендуете? — спросил я с надеждой.
— Я разучился рекомендовать, — фыркнул он. — Я теперь умею только впаривать. Знаете, какая самая частая дебильная фраза в этом дерьме? «Брось оружие и поговорим», вот какая. А настоящий фильм, как любой убийца с мозгами, оружия не бросает, даже если ему приспичит при этом разговаривать. Что странно, — добавил он как бы в скобках, — но порою художественно убедительно. Говорить-то говорит, а сам в тебя пулю за пулей всаживает, ха — ха! Так оно надёжнее. И последний, Шизофреник, подобный фильм был снят лет пятнадцать назад. А на дерьмо я должен зазывать каждый месяц.
— Можно ведь писать отрицательные отзывы?
— Можно. Но зазывать всё равно придётся.
— Ведь есть азиаты, — заметил я. — «Oldboy» пулю за пулей всаживает. И первый фильм из той же трилогии, он тоже. Я всё время забываю имя режиссёра.
— Пак Чан Вук. «Oldboy», «Oldboy»… Ну их к чёрту с их азиатскими мозгами. Какие это пули? Это ихние пытки тоненькими иголочками, тыща штук на отдельно взятый палец. Или вот бамбук, который сквозь человека прорастает. Вы в детстве про бамбук читали? Он растёт с такой скоростью, что, прежде чем ты сподобишься подохнуть, из него уже можно будет сделать удочку.
— Глупость, — сказал я, думая о бедном глухонемом из «Сочувствия господину Месть», — обходится нам дороже всего.
— Блестящая мысль. Вы только не уточнили, глупость чья.
Чего ж тут уточнять, я говорил о собственной глупости и всегда имел в виду только её, потому что, если брать в расчёт ещё и чужую, становишься человеком с совсем другим диагнозом, если у таких диагноз вообще бывает. Не диагноз они получают, а заводы, пароходы, газеты и язву.
— Каждый заплатит за свою.
— А владелец этот завода несчастный заплатил за что?
— За удовольствие.
— Странный вы человек, — сказал Херасков после паузы. — Вы сами-то не кореец? Хотя бы наполовину?
— Даже сырой рыбы не ем, — поспешил я откреститься. — Но в этих фильмах по-настоящему есть справедливость.
— И довольно ядовитая. И кстати, как я помню, раньше вы предпочитали милосердие.
Я предпочитал его и сейчас. Но вооружиться против справедливости — против неё-то, вооружённой до зубов и торжествующей в каждом вдохе, пышущей из ноздрей пылом-жаром и запахом серы — мне было не по плечу. И ведь это он про пули заговорил, не я. Справедливость умеет нагнать саспенсу.
— Плевать, плевать, наххх. — (Или как-то так.) — Спокойной ночи, дружок шизофреник. Sweet dreams.
Наххх? (Или как-то так.) Я обратился за помощью к Словарю сокращений русского языка (второе издание, исправленное и дополненное, М., 1977). Там нашлись МЕХАНОБР, ИЛЯЗВ, ИМРЯК и даже ЛСД (лаборатория санитарной дезинфекции). Ч прописная означала час атаки в военной терминологии, а ч строчная, преимущественно с точкой (ч.) — час, часть, человека, число и химический термин «чистый». В сокращении Б мирно соседствовали батальон и барн, а в Д — деревня, дюйм и дательный падеж. Я плутал по словарю (МОНЦАМЭ — монгольское телеграфное агентство, и вот то, что меня всегда удивляло странным совпадением: ГБ, госбезопасность и государственная библиотека, а теперь ещё, вдали от 1977-го, и Господь Бог), плутал и не находил, но не отчаивался. Сокращение НАХХХ (или как?) могло быть сокращением и не из родного языка, и не сокращением, а чем-то плохо расслышанным. Милосердию и справедливости в одном сердце не было места. На одной земле, наверное, тоже.
Корней
Наш покойный папа преставился уже на моей памяти. То, что он дал дёру от нашей мамы, никто, кроме неё, не ставил ему в вину, но сразу же женившись вновь, на бледной и неудачной маминой копии, он прослыл большей скотиной, чем был. Пятнадцать лет с мамой, ещё пятнадцать — в кругу новой семьи, а папе хоть бы хны! Папина фортуна ни разу не поскользнулась. При всех режимах он был крупным чиновником и неуклонно становился всё крупнее, а помер как орден получил: за шашлыками, в азарте и неприличной компании.
И вот, с точки зрения нашей мамы, папа виноват во всём, а теперь ещё и в том, что слишком рано стал покойником. Хотя он обеспечил детей, вдов и претендентов, обе вдовы, мечтавшие себя в золоте по уши и видевшие, что все папины приятели набиты деньгами, как чучелы перьями, сочли наследство нищенским. Папа, похоже, слишком любил весёлую жизнь, чтобы обгрязниться на коронной службе до миллионов. Нет, миллион-то у него был, но один на всех. А не так, чтобы каждому.
Принцесса очень любила отца, но ни в чём не была на него похожа. Наш папа был кругленький, низенький, всегда довольный и анекдотично невежественный, как и положено барину советского покроя. (Это с его стороны дедушка ходил почти в лаптях. Чем Принцесса начала гордиться сразу же, едва выяснила, что в моде гордиться наспех откопанными графьями.) Интересы его, по должности, были самыми невысокими: поспать, покушать, баня, домик на Канарах. (Куда этот домик сразу же после похорон девался, не смогла разузнать даже наша мама, поэтому я не верю, что он вообще был.) Когда власти поручали ему пощекотать народ какими-нибудь новизнами, папа, преступный и верноподданный, никого не защекотывал до смерти. Он был шармёр и любил праздники жизни, и очень следил, чтобы праздник не омрачался народным стоном и проклятиями, — а ведь были среди соратников и дельцов такие набирухи, кому плач народа только аппетит улучшал.
«Медведь пятернёй, а кошка лапкою», — говорил папа. Зато двух мэров пересидел и при нынешнем губернаторе сидел бы в почётном кресле, кабы не помер.
И вот, во втором браке папа оставил двух дочерей, которых наша мама ненавидит, а Принцесса снисходительно помыкает. Как на грех, старшая девочка Анечка поступила в Университет, и за четыре года Принцесса так и не переварила эту радость. Могла бы, казалось, употребить небольшую политику — притом что Анечка на единокровную сестру всегда смотрела как на некое диво и старалась если не подражать, то хоть равняться. Пара ласковых — и верёвки вей; есть где разгуляться великодушию. Но некоторые, скандала единого ради, разве позволят себе и другим жить спокойно?