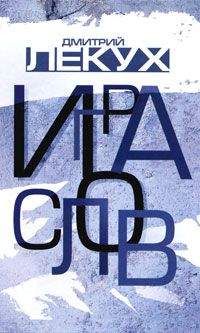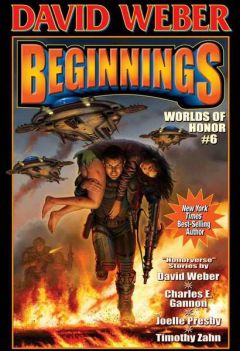Особенно, если эта самая дверь, по причине давно и безнадежно сломанного замка, все одно никогда не запирается?!
Там еще раньше, говорила несчастная дагестанская девушка, – проволочка была такая специальная, ею ручку прикручивали, чтобы никто случайно на ходу не выпал.
Потом и она пропала.
Спиздил кто-то, наверное…
…Можете себе представить, каким в этом вагоне был туалет?!
Ага.
А Вещевайлов мог там читать стихи!
Понимаете?!
И – ладно еще, если б хорошие.
Так ведь нет!
Он там тощий сборничек Игоря Волгина изучал, – помните, я вам про этого, так сказать, поэта, в предыдущих главах докладывал?!
Ну, мой бывший репетитор.
Параллельно – глава литературного объединения «Луч» Московского Государственного Университета.
Не хрен собачий.
Вот Вовка и готовился, так сказать, к встрече с любимым руководителем любимой университетской поэтической студии.
Я б на месте Игоря Леонидовича обиделся, врать не буду.
Особенно на фразу «любую субстанцию надобно постигать в соответствующем ей антураже».
Гностик, твою мать.
Философ, можно сказать, античный.
Любомудр.
Ага.
Недоделанный…
…А тут – совершенно точно «большие стихи».
А он их – ни ухом, ни рылом.
Да быть такого не может!
Начал прислушиваться…
Нет.
Незнакомый текст.
Ни разу не сталкивался.
А вот манера…
Нет, даже не манера чтения, манера самого стихосложения, сложения слов в строчки, словописания: тяжелая, крутящаяся, перетекающая, как река, записанная словами, – изящная и «черноземная» одновременно…
У Вовки мелькнула безумная мысль.
Нет: не может быть!
Он прокашлялся.
Птичий старик остановился, внимательно вглядываясь в игру живых бликов костра на лице случайного гостя своими безумными влажными глазами.
– Сестры, тяжесть и нежность, – начал Вовка хриплым от волнения голосом, и старик – сразу затанцевал, замахал руками-крыльями, завыкрикивал слова продолжения…
…одинаковы ваши приметы.
Медуницы и осы тяжелую розу сосут.
Человек умирает, песок остывает согретый,
И вчерашнее солнце на черных носилках несут.
И – вдруг остановился выжидательно…
…Вовка, холодея, продолжил:
– Есть иволги в лесах, и гласных долгота…
Старик презрительно фыркнул.
Было ясно, что текст ему стопроцентно знаком, но вот – почему-то сегодня не нравится…
Не канает.
Ага.
– Куда мне деться в этом январе? – робко вздохнул Вещевайлов.
На этот раз старик оказался – куда более благосклонен.
Он – даже не продолжил за Вовкой, а начал с самого начала.
Куда мне деться в этом январе?
Открытый город сумасбродно цепок…
От замкнутых я, что ли, пьян дверей? —
И хочется мычать от всех замков и скрепок.
И переулков лающих чулки,
И улиц перекошенных чуланы —
И прячутся поспешно в уголки…
…Старик неожиданно остановился.
Посмотрел в Вовкину сторону еще более безумными глазами.
А потом – заплакал и убежал.
– И выбегают из углов угланы, – ошарашенно закончил за него Вещевайлов и немедленно отправился на поиски хотя бы одной живой души, которая ему всю происходящую муть хоть немного бы да объяснила.
А то ведь – так и умом недолго тронуться…
Не дело это, господа, – чтобы вот так.
Ой, не дело…
…Надо сказать, что Вовка, естественно, перед тем, как отправиться на поиски живых душ, судорожно дохлебал остатки содержимого бутылки, а потом, обыскав стоящий неподалеку стол, обнаружил там еще одну, почти что нетронутую.
Так что поиски происходили уже в более комфортном, хоть и слегка встревоженном душевном состоянии.
И, разумеется, – просто не могли не увенчаться успехом.
Насчет живых душ было, конечно, непросто, но вот родственную Вовка – отыскал.
В лице довольно чутко спящего молодого цыгана Эдика.
Напоил его трофейной Массандрой и, типа между делом, поинтересовался насчет странного старика.
– А, – неожиданно огорчился будущий столичный артист, – ты деду Ёсе вина наливал, да?! Ай, напрасно! Ай, долго не успокоится! Он что, убежал, да?!
– Убежал, – подтвердил вконец растерянный Вещевайлов. – Меня ж никто не предупредил, понимаешь?!
Но Эдик укоризненно цокал языком.
Качал головой.
Бурчал себе что-то под нос, не по-нашему…
– Хорошо еще, что убежал, – неожиданно выдохнул. – А то бы весь табор своими криками перебудил. А так проплачется где-нибудь за терриконами, да придет к утру. Никуда не денется, когда жрать-то захочет…
Вовка уселся на валяющееся неподалеку бревнышко, вздохнул, отхлебнул из отобранной у молодого бутылки.
Снова вздохнул, на этот раз – закуривая.
– А кто он такой, – выпускает клубы дыма, образующие в отблесках полупогасшего костра зловещие красно-серые узоры, – этот ваш дед Ёся? Странный он…
Цыганенок тоже вздыхает, встает, накидывает на плечи телогрейку, усаживается рядом с Вовкой, отбирая у него бычок на предмет докуривания.
Вовка в принципе – не возражает.
– Да бог его знает, – выдыхает в стылое осеннее небо свою порцию зловеще волнующихся клубов. – Давно у нас живет. Старики говорят, еще до войны прибился. Он больной, ты же видишь. А старые цыгане верят, что больной с богами говорит напрямую, его обижать нельзя. Вот и живет…
– С какими богами разговаривает? – почему-то неожиданно уточнил Вовка. – С вашими? Или так, вообще?
– Почему с нашими? – удивился в ответ Эдик. – Со своими. Любой человек только со своими богами говорить может. А какая разница, слушай, – вашими, нашими?! Он и своим богам пожалуется, – никому мало не будет. Они ж хоть и его, но – все равно боги…
– Да ну тебя, – махнул рукой Вовка и потянулся за пазуху за своими волшебными папиросами.
А наутро, когда они с приятелем проснулись, цыгане уже собрались и куда-то ушли, так что Вовка так до сих пор и не понимает, было ли это все с ним на самом деле, или так – по обкурке почудилось…
– Хорошая, – усмехаюсь одной стороной лица, – история. Только что выдумал или домашняя, так сказать, заготовка?
На его лице, разумеется, – никакого разочарования.
Только искристое веселье да закатное московское солнце в почти черных на ярком свету зрачках.
– А какая, – смеется, – Дим, разница?! Жизнь – это всего лишь игра слов. Или, по-другому, – всего лишь повод для литературы. Знаешь, кто сказал? Ионеско! И я ему верю, понимаешь!
Я кривлюсь.
Я слишком хорошо помню тот жухлый кустик чахлой горной травы, за которым лежал мертвый Лешка.
А я старательно вжимал щеку в плоский горный камень и видел, как скапливается на его острых, изломанных стрелках, зеленоватых только изнутри и все более жухлых к краям, прозрачная капля воды.
И как медленно начинает свой путь сверху вниз, чтобы достичь дна как раз в тот миг, когда туман уползет, между двух каменных зубцов блеснет встающее солнце, и за нами наконец-то придут шумные и самоуверенные вертушки.
Такие дела.
– Ты неправ, – разливаю по стаканчикам остатки коньяка, – ты даже не представляешь, насколько ты неправ, Вов. Ни одна самая великая история, ни одно, даже самое великое стихотворение не стоят ни одного мига простой живой жизни. Понимаешь, – творцы у этих вещей немного несравнимы, Володь. Я бы даже сказал, – несопоставимы. Такие, понимаешь, дела…
Вовка хмыкает, деловито опрокидывает стаканчик.
Выдыхает.
– Херня это все, – усмехается, – Дим. Это обычный депрессняк, это скоро пройдет. Не может не пройти, по-любому. Потому как в таком состоянии, конечно, можно жить, но – нельзя писать стихов. И какой тогда смысл жить?!
– А я и не пишу их больше, – говорю про себя, не повторяя слова вслух, чтобы потом тупо не спорить с Вещевайловым.
Оно мне надо?!
Спорить, объясняться: что, почему, зачем?
Слушать всю эту шелуху.
Просто не пишу, и все.
Не хочу.
Точка.
Не многоточие, а именно точка.
Потому как если не хочу, то, значит, – точно не буду…
В тексте главы использованы стихи Осипа Мандельштама. Место захоронения Осипа Эмильевича, сгинувшего в конце тридцатых в сталинских лагерях, не известно до сих пор.
Прогулки по осенней Москве. 2008
…Не заметить ее было, разумеется, невозможно.
Еще бы.
Побывать где-то с Дашкой «незаметно», «не привлекая лишнего внимания» и, тем более, «инкогнито» – это вообще иллюзия.
Приблизительно такая же, как прятать сворованного породистого щенка в куче дворовых собратьев: даже весело носящийся в дворовой шайке-лейке и от хвоста до бровей заляпанный веселой весенней пылью – он все равно неминуемо будет притягивать взгляды прохожих своею неминуемой чужеродностью и этому двору, и этим дворнягам.
Это – если маскировать и маскироваться, чего подруга дней моих суровых вообще терпеть никогда не мола.
Просто – тупо по жизни.