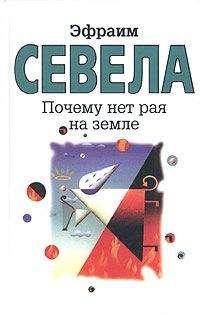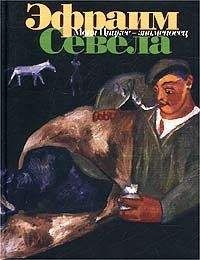Она перехватила в зеркале мой взгляд и отняла от ресницы щеточку с черной краской.
— У меня для тебя сюрприз, — усмехнулась она.
— Какой? — после долгой паузы спросил я пересохшими губами, чуя, что меня ждет новый удар.
— Беременна-то я была от тебя.
— Врешь.
— Чего мне врать? Женщина всегда знает, от кого она понесла.
— Зачем же тогда ты напраслину на себя возвела?
— Иначе ты не позволил бы сделать аборт.
Я в изнеможении упал на кровать и закрыл лицо руками.
— Ты убила нашего ребенка.
— Да. Убила.
— Почему? Ты не любишь детей?
— Я не люблю евреев. Зачем их плодить?
И тут я сорвался. Прыгнул к ней и стал бить наотмашь. По голове, по плечам. Она свалилась на пол, свернувшись калачиком, и я нанес ей удар ногой. Не помню куда. Кажется, попал в шею, в подбородок. Это отрезвило меня. Я побежал из спальни, чуть не кубарем скатился с лестницы и в столовой лег на свой диван, уставившись глазами в его бордовую плюшевую обивку.
Я слышал, чуял спиной, что Лайма спускается по лестнице. Вернее, сползает. Потом на всех ступенях я замывал кровь, капавшую с ее разбитых губ. Я не обернулся. За моими плечами слышалось ее трудное, прокуренное дыхание. Она уткнулась лбом в мою спину, стоя на коленях у дивана, и стала тереться лицом, размазывая по моей рубашке кровь.
— Хочешь, я рожу тебе? — хрипела она. — Не одного еврея… а много… Целое гетто.
Через месяц она снова понесла. И этого ребенка сохранила. Так появилась на свет моя дочь. Рута.
Внучка убийцы и его жертвы.
Девочка с такой гремучей смесью кровей, что у меня не вызвал удивления ее взрывчатый, как заряд динамита, характер.
Но еще до рождения Руты разыгрались события, снова резко повернувшие мою жизнь. И не в лучшую сторону.
К тому времени рухнула карьера коменданта города майора Таратуты, и я лишился единственного влиятельного покровителя. Зато быстро пошел в гору его питомец и лютый недруг Алоизас, чью судьбу он некогда решил в одну минуту на моих глазах. Алоизас, встав на ноги и набрав силу, не забыл того унижения, каким были куплены его спасение и нынешняя карьера, безжалостно и подло расправлялся со всеми, кого злой рок привел в кабинет коменданта города.
Он уничтожил Григория Ивановича. И комсомольских работников, которых пригласил в комендатуру на расправу с Алоизасом майор Таратута. Уцелел лишь я один. И я, по своей наивности, уже полагал, что меня минует злобная мстительность нового всемогущего вельможи по той причине, что я был свидетелем случайным и фигурой настолько мизерной и незначительной, что разумней всего было сделать вид, будто он меня и не заметил.
Я недооценил этого оборотня, с такой легкостью отрекшегося тогда от своей матери. Его месть была педантично рассчитана до мелочей. Он не останавливался на полпути и тщательно прикрывал свой тыл. Даже я казался ему опасным. И он смахнул меня. Как сухую крошку хлеба смахивают со стола.
Это было незадолго до смерти Сталина. По всей России бушевала антисемитская кампания, разжигаемая газетами и радио. Все грехи советского государства, все его провалы и недостатки приписывали еврейским козням и евреев изгоняли с работы, предварительно на общих собраниях на потеху толпе поглумившись над ними и заставив каяться в несодеянных поступках. Изгнание с работы — «волчий билет», перед обладателем которого закрывались все двери, и его семья получала перспективу протянуть ноги с голоду, но это было еще далеко не худшим вариантом для еврея. Многих арестовывали, обвинив в диверсиях и сотрудничестве с иностранными разведками. Евреев объявили антипатриотами и космополитами. В любом учреждении, где в штате числился хотя бы один еврей, проводились собрания, на которых этого еврея разоблачали и, вдоволь надругавшись, изгоняли.
В Литве евреям было легче. Здесь весь накал ненависти сосредоточился между литовцами и русскими, преследуемыми были литовцы, ненавидимыми — русские. Евреи оставались как бы в стороне.
Но когда по всей стране началась кампания борьбы с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом, то и в Литве решили слегка намять бока своим евреям. Неприязнь к евреям объединила недавних врагов: русских и литовцев.
В нашем ресторане евреи составляли примерно половину работников. В основном за счет оркестра. Еще были кладовщик и буфетчица. У нас тоже стали искать своих космополитов и диверсантов. По указанию сверху.
Днем нас собрали в малом банкетном зале, под страхом увольнения запретив покидать собрание до самого конца. Выходить из зала разрешалось только в туалет. Это сразу настроило всех на тревожный лад.
Мы сидели с Лаймой в углу и слушали скучный доклад о космополитах, который по бумажке читал, запинаясь и кашляя, не совсем грамотный литовец из городского комитета партии.
— И у вас в коллективе космополиты свили свое гнездо, — оторвался он от бумажки и обвел глазами зал, словно выискивая среди нас кандидата на заклание.
Он не знал никого из нас в лицо и поэтому лишь нагнал страху, скользя взглядом от одной физиономии к другой и так ни на ком и не остановившись. Я уж полагал, что отделался лишь легким испугом, но горько ошибся. Докладчик передал слово представителю нашего коллектива. Из-под его руки высунул маленькую головку наш лилипут по кличке «Купите даме шоколаду». Он встал и, когда сполз со стула, над краем стола высилась лишь верхняя половина его головы с прямым пробором посередине зализанных жидких волос. Я и не знал, что наш лилипут партийный. Его представили нам как неподкупного коммуниста, который выследил и вывел на чистую воду всю шайку безродных космополитов, окопавшихся в ресторане «Версаль» под видом безобидных музыкантов, как волки, натянувшие на себя овечьи шкуры.
Меня стало подташнивать. Лайма скосила свои большие серые глаза на меня и прикусила нижнюю губу. Она сразу поняла, что я обречен.
Все выглядело нереальным. Темный, с дубовыми панелями зал. Красный, кровавый бархат штор на окнах. Длинный овальный стол, за которым мы сидели на мягких стульях с резными дубовыми спинками. На одной стене в позолоченной раме висела картина, изображающая битву под Грюнвальдом: месиво конских крупов, сверкающих мечей, выпученных глаз и лежащих под копытами тел в кольчугах.
Шторы были опущены, и свет, проникавший сквозь толстую ткань, был оранжево-красным. И, словно мы находились на сеансе циркового иллюзиониста и фокусника, над краем стола, как отрезанная, виднелась лишь верхушка головы оратора-лилипута, писклявым детским голоском выносившего мне приговор.
Я был объявлен космополитом номер один. Мне инкриминировалось, что я засорил наш репертуар упадническими западными мелодиями, как пример приводилась пресловутая «Африка» — коронный номер ресторанного оркестра, в основном и привлекавший публику в наш зал.
Я хотел было возразить, что не я ввел в репертуар этот номер. «Африка» исполнялась в ресторане задолго до моего прихода в оркестр. Но мне не дали говорить. И когда я нервно вскочил, требуя слова, Лайма дернула меня сзади за пиджак и, вернув на место, прошипела в ухо:
— Сиди, идиот. Не видишь, что делается? Молчи!
Я плохо слышал, что говорилось дальше. Лилипут назвал, подряд всех евреев, но лишь меня он требовал изгнать из коллектива, чтобы очистить атмосферу. Мне стало все ясно. Как во сне, я увидел за половинкой головы со сморщенным лобиком ухмыляющееся лицо Алоизаса. Он, как фокусник, был в черной мантии и черном цилиндре и рукою в белой перчатке дергал ниточки — они вели к лилипуту, и тот детским голоском пищал страшные слова.
Колесо жуткой комедии продолжало вертеться. Лилипут поставил на голосование — изгнать меня из оркестра. И все покорно подняли руки. И мои коллегим-узыканты, и повара, совсем недавно изготовившие чудо-торт к моей свадьбе, и официанты, и еврей-кладовщик, и еврейка-буфетчица.
Лишь один человек не поднял руки. Лайма. Все смотрели на нее, а она, с презрительной улыбкой на красивых губах, рассматривала кровавую штору поверх половинки головы лилипута.
— Решение принято единогласно, — проскрипел «Купите даме шоколаду» и, после паузы, добавил: — А вы, Лайма, останетесь в нашем коллективе. Вы — хорошая литовская певица. И вам совсем не к лицу еврейская фамилия. Вернитесь к своей добрачной девичьей фамилии.
— Вы предлагаете мне развестись? — спокойно спросила Лайма.
— Зачем так заострять? — вмешался представитель горкома, высившийся рядом с макушкой лилипута. — Просто ваша девичья фамилия теперь больше… ну, скажем… в моде.
— Я никогда не следила за модой, — ответила Лайма. — Тем более за вашей. За ней не успеваешь угнаться. С вашего разрешения, я себе оставлю немодную фамилию.
Я был готов зарыдать. Лайма казалась мне в этот момент Жанной д'Арк, античной богиней, самым мужественным и честным человеком из тех, кого я знал. Встретив мой восхищенный взгляд, она остудила мой пыл злым шепотом: