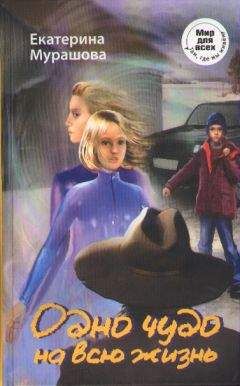— Лев! Я потрясён! — Леонид Яковлевич всплеснул маленькими аккуратными руками. — Какие инопланетяне?! О чём вы думаете накануне конкурса молодых исполнителей, к которому мы с вами готовились полгода?!
— Леонид Яковлевич! Я спросил! — в голосе Лёвушки зазвучали капризные, почти истерические нотки.
— Да Бог с вами, Лев! Откуда я знаю! Если исходить из того, что Вселенная бесконечна в пространстве и во времени, то, конечно, где-нибудь вполне может существовать жизнь, напоминающая земную…
— А параллельные пространства?
— Какие параллельные пространства! Лев! Вы что, увлеклись чтением жёлтой прессы?!
— Нет, Леонид Яковлевич, я пока ничего такого не читал, я просто хочу понять, существуют ли параллельные пространства и может ли оттуда кто-то попадать сюда, к нам, — терпеливо объяснил Лёвушка.
Профессор потёр рукой скошенный подбородок и надолго задумался. Потом грустно сказал:
— Знаете, Лев, мне больно вам это говорить, но, может быть, окружающие нас с вами люди правы и вам всё же стоит сконцентрироваться на изучении математики. Тогда, по крайней мере, вы будете изучать строгую гармонию и ваша голова не будет забита этой чепухой про параллельные пространства… Вы слишком эмоциональны, Лев. Может быть, ваш мозг требует… Нет, нет, я не могу решать! Идите и ещё раз всё хорошенько взвесьте.
— Хорошо, Леонид Яковлевич, я взвешу, — сказал Лёвушка, аккуратно укладывая скрипку в футляр. — Только я думаю, знаете что? Что мне надо сконцентрироваться на изучении жизни… До свидания, Леонид Яковлевич, — глядя прямо перед собой, Лёвушка вышел из музыкального класса, споткнувшись об порог на выходе, а Леонид Яковлевич остался в одиночестве. Он протирал лоб уже совершенно мокрым платком, нервно приглаживал седой хохолок и что-то тихо бормотал себе под нос.
— Василий! Ну куда ты пойдёшь? Ты же на ногах не стоишь…
— Я — стою! Я крепко стою на ногах! Мы — кузнецы! И дух наш молод! Куём мы…[72]
— Василий! Ну не надо! — жена заплакала. Младшая дочь, играющая под столом с котёнком, ничего не поняла, но тоже заплакала. На всякий случай. — Ну подумай, ты уйдёшь, и тоже пропадёшь где-нибудь. Зима же. Сгинешь в городе под каким-нибудь забором. Там, говорят, какие-то ребята-отморозки пьяниц убивают…
— Я не пьяница!
— А кто ж ты, Василий?
— Я — был слесарь шестого разряда! Я получку на ветер кидал!..[73]
— Брось, Василий! Когда ты последний раз получку-то приносил? Ну, уйдёшь ты, Сёмка ушёл, как же одна с малыми-то буду? Без работы, без денег. С огорода-то не прокормишься…
— Я верну сына домой! Я п-пойду и верну!
— Пойдёт он с тобой, как же! Вот с таким! Ты просохни прежде, а потом — иди! Погляди хоть раз на мир трезвым взглядом, а, Василий? Тут много интересного увидишь, нового… Дети вон подросли…
— Ты чего… Ты чего, смеёшься, что ли, надо мной? Смеёшься?!
— Смеюсь. Смеюсь, Василий, чтоб не плакать…
— Да ты… Да я тебя…
— Вот, вот, в своей-то кухне ты храбрый. На мне малые, мне идти некуда, а то и сама убежала бы, как Сёмка. Чтоб всего этого не видеть. Куда глаза глядят…
— Я пойду и найду Сёмку. Я так сказал. Моё слово крепкое. Вздымайся выше, наш тяжкий молот!..[74]
— А! Иди! Иди куда хочешь!
— И п-пойду…
— Трофимыч, мы с твоим отцом… Мы с дедом Трофимом… Как встретимся, так завсегда… Ну завсегда говорим… по душам говорим… И он мне про тебя тоже говорил: сын у меня — душевный человек, грит. Если что, ты, грит, Василий, к нему… И вот третьего дня тоже… говорили… Ты мне по-соседски…
— Ну по-соседски, не по-соседски, а всё ж участковому в таком состоянии являться не следует, — Виктор Трофимович поморщился, стараясь дышать пореже. Совсем не дышать, естественно, не получалось. — Вот отправлю тебя в вытрезвиловку, там тебе небо с овчинку покажут…
— Отправь, Трофимыч, отправь, я должен через страдание покаяние принять…
— Я тебе, Василий, не поп. И не покаяние тебе нужно, а трезвый образ жизни. На работу постоянную устроиться…
— Куда?! Куда у нас в Петровом Ключе можно устроиться? Пока совхоз был, так я же это… трактористом был. И механизатором могу, четвёртый разряд у меня. Но сейчас же нет ничего…
— Езжай туда, где работа есть.
— Куда я с тремя детьми малыми поеду?! Подумай сам!
— Это ты, Василий, думай! — разозлился наконец Виктор Трофимович. — Я тебе не нянька и не Армия спасения[75]. Чего ты от меня-то хочешь, я никак не пойму?
— Помоги мне, Трофимыч, сына отыскать! Век буду за тебя Бога молить!
— Ты, Василий, атеист, пьяница и безбожник, поэтому Бог тебя не услышит, — назидательно сказал Виктор Трофимович. — А что с сыном-то? Сбежал, что ли?
— Сбежал, как есть сбежал! — Василий ударил себя кулаком в грудь. — Писульку оставил и сбежал. Я, пьяница, во всём виноват.
— Конечно, ты, — безжалостно подтвердил участковый. — Так что ж его искать-то, если своей волей. Пристал, должно быть, к нашей шпане — уголовщине-беспризорщине. Её у нас развелось немерено. От таких-то отцов…
— Я покаяние приму! Но ты же тоже должен… У тебя же обязанности милицейские. У меня сын пропал! Ребёнок! Тринадцать мальчишеских лет!
— Всего тринадцать? Эх! — Виктор Трофимович тяжело вздохнул и тут же скривился от запаха перегара. — Ну ладно, пиши заявление. Писать-то можешь?
— Я — могу. Я — всё могу, — быстро закивал Василий.
— Тогда пиши. Я сам в отделение отнесу, а то они как увидят тебя, такого красавца, так сразу на месте родительских прав лишат.
— А разве так можно — на месте? — встревожился Василий. — Так нельзя!
— Пиши, горе луковое! — воскликнул Виктор Трофимович. — Вот здесь сверху: начальнику двадцать третьего отделения милиции Смирнову К. Е… от гражданина Болотникова В… Как там тебя по батюшке-то? Геннадьевич? Значит — В. Г. Заявление…
— Виктор Трофимович! — Андрюшин голос в телефонной трубке дрожал от еле сдерживаемого возбуждения. — Виктор Трофимович! Опять!
— Что — опять? — Ангелина только что подала ужин — вареники со сметаной и шкварками. Холодная стопка и горячий чай ждали своей очереди. — Чего случилось-то?
— Питерские школьники снова с нашими схватились. Похоже, по наводке. Мне дружок позвонил, мы вместе в школе милиции учились, он теперь на вокзале. Я просил сообщать мне, если что. Виктор Трофимович, там — огнестрел!
— Что-о?! Огнестрел?! Лисы стволами обзавелись? Говорил же я…
— Да нет, Виктор Трофимович! В том-то и дело! Это питерские в наших стреляли! Попали, между прочим. Раненый есть. Какой-то Вонючка. Больше ничего пока неизвестно. Виктор Трофимович! — чувствовалось, как Андрюша прямо-таки подпрыгивает у телефона.
— Собирай информацию, я подъеду, — глухо велел Виктор Трофимович, отодвинул в сторону тарелку с варениками и тяжело уронил голову на руки. — Дожили! Дети в детей стреляют!
— Всё равно они нас сильнее — вот о чём думать надо, — задумчиво сказал Баобаб.
Стасик Орлов хмыкнул.
— И ничего смешного. Ты, я — ничего себе, драться можем. Ну, может, Варенец ещё, если разозлить. А Никита, а Витёк? И девчонки у нас… А они — бойцы с улицы, и старше, и крови не боятся…
— Так надо одним пацанам ездить…
— Ты будешь с этой Аи говорить? Пожалуйста! На меня она как глазищами своими глянет, так я себя и теряю… Нет, пускай уж девчонки…
— Может, нам вооружиться? — предложил Борька Антуфьев. — Ножи взять, напильники, ещё что?
Пацаны переглянулись. Разговор происходил в школе, в мальчиковом туалете, на третьем этаже. Никита и Борька сидели на подоконнике, обхватив руками колени. Стасик стоял, ухватившись рукой за чуть тёплую трубу отопления, Баобаб удобно пристроился на стульчаке. Все, кроме Никиты, курили.
— А чего… — одобрительно начал Никита.
— Ерунда! — решительно отмёл предложение Баобаб. — Ты, Никита, человека ножом ударить можешь? Нет! Это тренировка специальная нужна. И сила большая. А пугать — так они вряд ли испугаются. Они у тебя мигом ножик-то выбьют и тебя же на твоё же перо поставят.
— Верно Баобаб объясняет, — поддержал Стасик. — У меня и батя говорил: нормальному человеку на другого человека руку поднять — надо у себя внутри сперва революцию сделать. А батя-то у меня профессионал… О, стоп, братва, я придумал! Мы пушку возьмём! Это наверняка. Это любой, самый крутой испугается!
— Откуда ж пушка-то?
— У меня есть. У бати. Он её от меня в сейфе прячет, но я давно код подглядел. Помнишь, Никита, ты меня учил?