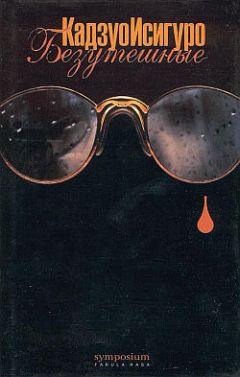— Он нас видит?
— По-моему, видит и знает, что мы видим его. Но продолжает стоять как вкопанный. Что ж, пойдём к нему сами.
Монах стоял по колено в траве сбоку от тропы, по которой шли спутники. Он ожидал их приближения совершенно неподвижно, не обращая внимания на ветер, трепавший рясу и длинные белые волосы. Он был худым, если не измождённым, с глазами навыкате, которые смотрели на спутников пристально, но без всякого выражения.
— Вы нас видите, сэр, — сказал Вистан, останавливаясь, — и знаете, что мы только что обнаружили. Поэтому, может быть, вы расскажете нам, с какой целью вы, монахи, соорудили такое.
Не произнеся ни слова, монах указал в направлении монастыря.
— Наверное, он дал обет молчания, — предположил Аксель. — Или немой, каким вы, мастер Вистан, недавно притворялись.
Монах вышел из бурьяна на тропу. Его странные глаза пристально оглядели их всех по очереди, потом он снова указал в направлении монастыря и двинулся в путь. Спутники последовали за ним, чуть поодаль, и монах постоянно оглядывался на них через плечо.
Монастырские постройки превратились в чёрные силуэты на фоне закатного неба. Когда спутники подошли ближе, монах остановился, приложил указательный палец к губам и пошёл дальше, ступая ещё осторожнее. Он явно старался, чтобы их никто не увидел, избегая выходить на центральный двор. Он повёл своих спутников по узким проходам за постройками, где земля была вся в ямах или резко шла под уклон. Когда они, пригнув головы, проходили вдоль какой-то стены, из окон сверху послышался шум того самого монастырского собрания. Чей-то голос пытался перекричать галдёж, потом второй голос — возможно, аббата — призвал всех к порядку. Но времени мешкать не было, и вскоре шедшие сгрудились в арке, через которую просматривался главный двор. Монах настойчиво подавал им знаки, чтобы они двигались как можно быстрее и тише.
Выяснилось, что им не придётся пересекать двор, где горели факелы, вместо этого они пройдут по его краю в тени колоннады. Когда монах снова остановился, Аксель шёпотом обратился к нему:
— Добрый господин, раз вы намереваетесь куда-то нас отвести, прошу вас позволить мне сначала зайти за женой, потому что мне не по себе оставлять её одну.
Монах тут же обернулся и вперил в Акселя пристальный взгляд, потом покачал головой и указал в полумрак. Только тогда Аксель заметил Беатрису, стоящую в дверном проёме в галерее клуатра[7]. Он с облегчением помахал рукой, и, когда спутники направились к ней, за ними следом покатилась волна разгневанных голосов монастырского собрания.
— Как твои дела, принцесса? — спросил Аксель, сжимая протянутые к нему руки.
— Я себе мирно отдыхала, и тут передо мной возник этот монах-молчун, чуть было не приняла его за привидение. Он хочет куда-то нас отвести, и нам лучше пойти за ним.
Монах повторил жест, требующий молчания, и, сделав знак следовать за ним, переступил через порог, у которого их дожидалась Беатриса.
Коридоры стали напоминать тоннель, как в их родной норе, мерцавшие в нишах лампады почти не давали света. Аксель, которого Беатриса держала за рукав, шёл, выставив свободную руку перед собой. На миг они снова оказались на открытом воздухе, когда переходили через грязный двор между распаханными участками земли, и тут же вошли в низкое каменное строение. Здесь коридор был шире, освещался лампами побольше, и монах наконец расслабился. Переводя дыхание, он вновь оглядел спутников и, дав знак ждать, исчез в арке. Вскоре монах вернулся и повёл их вперёд. И тут же изнутри прозвучал слабый голос:
— Входите, гости мои. Негоже принимать посетителей в такой бедной келье, но милости прошу.
* * *
Дожидаясь, пока к нему придёт сон, Аксель снова вспомнил, как они вчетвером, да ещё и вместе с молчаливым монахом, втиснулись в крошечную келью. У кровати горела свеча, и он почувствовал, как отшатнулась Беатриса, заметив лежащую фигуру. Потом она перевела дух и прошла в глубину комнаты. Места на всех едва хватало, но они быстро расположились вокруг кровати, воин с мальчиком — в самом дальнем углу. Аксель оказался прижат спиной к холодной каменной стене, а Беатриса встала прямо перед ним и прислонилась к нему — словно для успокоения — у самой постели больного. В келье стоял слабый запах рвоты и мочи. Тем временем молчаливый монах суетился над лежавшим в постели, помогая тому принять сидячее положение.
Хозяин кельи был седовлас и стар. Телосложение у него было крупное, и наверняка ещё недавно он был полон сил, но теперь даже сесть в постели явно давалось ему с великой мукой. Когда он поднимался, прикрывавшее его грубое одеяло откинулось, открыв взгляду ночную рубашку, запятнанную кровью. Но отпрянуть Беатрису заставили его шея и лицо, ярко освещённые стоявшей у постели свечой. Бугристая опухоль сбоку под подбородком, цветом переходившая из тёмно-багрового в жёлтый, вынуждала его держать голову под небольшим углом. На вершине опухоль треснула, покрывшись гнойно-кровавой коркой. На лице от скулы до губ шёл разрез, открывавший часть ротовой полости и десны. Наверняка улыбнуться стоило ему огромных усилий, но, устроившись в новом положении, монах именно это и сделал.
— Милости прошу, милости прошу. Я — тот самый Джонас, ради встречи с которым вы проделали долгий путь. Дорогие гости, не смотрите на меня с такой жалостью. Эти раны уже не свежие и причиняют куда меньше боли, чем прежде.
— Отец Джонас, — обратилась к нему Беатриса, — теперь мы понимаем, почему любезный аббат так не хотел, чтобы вам докучали посторонние люди. Мы бы остались ждать его разрешения, но этот добрый монах привёл нас сюда.
— Ниниан — мой самый верный друг, и, несмотря на то что он дал обет молчания, мы с ним отлично друг друга понимаем. Он наблюдал за каждым из вас с самого вашего появления и регулярно мне доносил. Я решил, что нам пора встретиться, пусть и втайне от аббата.
— Но откуда у вас эти раны, отче? — спросила Беатриса. — Ведь вы знамениты добротой и мудростью.
— Давайте оставим эту тему, госпожа, потому что моя немощь не позволит нам долго беседовать. Я знаю, что двое из вас, вы сами и этот храбрый мальчик, нуждаетесь в моём совете. Позвольте мне вначале осмотреть мальчика, который, как я понимаю, ранен. Подойди ближе к свету, дорогое дитя.
В голосе монаха, хотя и слабом, зазвучала прирождённая властность, и Эдвин уже было шагнул вперёд. Однако Вистан тут же схватил мальчика за руку. То ли из-за пламени свечи, то ли из-за тени Вистана, дрожащей на стене, но Акселю показалось, что взгляд воина на мгновение впился в израненного монаха с особой выразительностью, даже ненавистью. Воин отодвинул мальчика обратно к стене, а сам шагнул вперёд, словно для того, чтобы защитить подопечного.
— В чём дело, пастух? — спросил отец Джонас. — Вы боитесь, что на вашего брата попадёт яд из моих ран? Тогда рука моя его не коснётся. Пусть он подойдёт поближе, и мне хватит зрения, чтобы обследовать его рану.
— Рана у мальчика чистая. Помогите лучше этой доброй женщине.
— Мастер Вистан, — возразила Беатриса, — как вы можете так говорить? Вам ведь отлично известно, что даже если рана кажется чистой, она может тут же воспалиться. Мальчик должен показаться этому учёному монаху.
Словно не слыша слов Беатрисы, Вистан продолжал пристально смотреть на монаха. В свою очередь отец Джонас рассматривал воина, словно тот представлял для него огромный интерес. Через какое-то время старый монах сказал:
— Вы на удивление дерзки для простого пастуха.
— Должно быть, это привычка моего ремесла. Ведь пастуху приходится по многу часов кряду бдительно следить за волками, крадущимися в ночи.
— Без сомнения, так и есть. Ещё пастух должен быстро соображать, заслышав шорох в ночи, возвещает тот опасность или приближение друга. Многое зависит от способности принимать такие решения быстро и благоразумно.
— Только глупый пастух, заслышав хруст веток или увидев в темноте чёрный силуэт, подумает, что это товарищ, пришёл его подменить. Мы — осторожный народ, и, кроме того, сэр, я только что своими глазами видел у вас в сарае некое устройство.
— Вот как. Я не сомневался, что рано или поздно вы на него наткнётесь. И что же вы думаете о своём открытии?
— Оно пробуждает во мне гнев.
— Пробуждает гнев? — резко повторил отец Джонас с усилием, словно сам внезапно разгневавшись. — И почему же?
— Поправьте меня, если я ошибаюсь, сэр. Подозреваю, что у здешних монахов в обычае по очереди залезать в клетку и подставлять тела диким птицам, надеясь таким способом искупить преступления, когда-то совершённые в этих краях и до сих пор остающиеся безнаказанными. Именно так были получены ужасные раны, на которые сейчас смотрят мои глаза, и, как я понимаю, их богоугодность облегчает ваши страдания. Однако осмелюсь признаться, что раны эти не вызывают у меня сострадания. Как вы можете выдавать замалчивание подлейших преступлений за раскаяние? Разве вашего христианского бога так легко подкупить добровольно причинённой себе болью и несколькими молитвами? Неужели ему так мало дела до попранной справедливости?