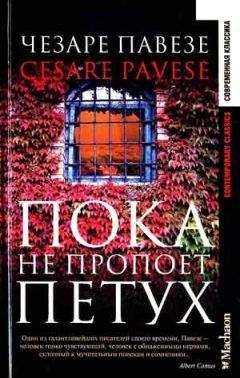— И мы, мама, — продолжила Кате, — приходим на холм, чтобы поспать.
Теперь старуха стала бурчать. Растерянный, я спрашивал себя, знала ли она, насколько справедливо и глубоко меня ранила. Они не рассчитывали на то, что другие их защитят. Смысл был в том, что и они меня унижали.
Заговорил Тоно: «Все пытаются спастись. Мы боремся за то, чтобы все, даже хозяева, даже наши враги поняли, в чем спасение. Поэтому социализм и не хочет больше войн».
Тотчас вмешался Фонсо: «Минуточку. Но ты не говоришь, почему рабочему классу всегда приходится защищаться. Хозяева удерживают свое господство войнами и террором. Уничтожая нас, они продвигаются вперед. И ты заблуждаешься, что они поймут. Они все уже прекрасно поняли. Поэтому они и продолжают».
Тогда и я вновь ввязался в разговор: «Я говорю не об этом. Я говорю не о классах. Понятно, Фонсо прав. Но мы итальянцы все такие, подчиняемся только силе. Потом, отговариваясь тем, что была сила, смеемся над собой. Никто не воспринимает ее всерьез».
— Буржуи точно нет.
— Я говорю о всех итальянцах.
— Учитель, — опустив голову, спросил Нандо, — вы любите Италию?
Вновь все лица повернулись ко мне: Тоно, старуха, девушки, Кате. Фонсо улыбнулся.
— Нет, — спокойно произнес я, — не Италию. Итальянцев.
— Вот моя рука, — сказал Нандо. — Мы поняли друг друга.
Через несколько ночей Турин превратился в огромный костер. Налет продолжался больше часа. Несколько бомб упало на холм и в По. По одному аэроплану с остервенением строчила зенитная батарея. На следующий день узнали, что погибло несколько немцев. «Мы зависим от немцев, — говорили все, — нас защищают они».
Вечером следующего дня новый, еще более ужасный воздушный налет. Было слышно, как рушатся дома, как дрожит земля. Люди опять убегали из города, опять спали в лесах. Мои женщины, стоя на ковре на коленях, молились до самой зари. На следующий день я спустился в пылающий Турин, и повсюду все и вся молили о мире, о конце. Газеты обливали друг друга грязью. Ходили слухи, что немцы приободрились, что Венето заполнили немецкие дивизии, что у наших солдат приказ стрелять по толпе. Из тюрем, из ссылки возвращались политзаключенные. Папа произнес еще одну речь, призывая к любви.
Ночь прошла спокойно, хотя нервы у всех были напряжены (на этот раз досталось Милану), потом опять ночь огня и разрушений. Вражеское радио каждый вечер повторяло: «Так будет каждую ночь. Сдавайтесь». Теперь в кафе, на улицах спорили только о том, как сдаться. Сицилия была полностью оккупирована. «Мы будем вести переговоры, — говорили оставшиеся фашисты, — но сначала враг должен уйти с земли нашей родины». Другие проклинали немцев. Все ждали, когда союзники высадятся около Рима и Генуи.
Возвращаясь на холм, я понимал, насколько ненадежно это убежище наверху. Казалось, что молчаливые леса чего-то ждут. И небо было пустым. Мне хотелось стать корнем, червяком, скрыться под землей. Меня раздражала мрачная Эльвира, ее голос и ее взгляды. Я прекрасно понимал жестокость Кате, которая обо всем этом не хотела больше слышать. В это время было не до любви, впрочем, для нее времени никогда и не было. Все прошедшие годы привели нас к этому, приперли нас к стенке. Галло, Фонсо, Кате, все, каждый по-своему, сами того не сознавая, жили в ожидании этого часа, подготавливая себя к этой судьбе. Такие люди, как Эльвира, встретившие ее неподготовленными, меня только раздражали. Я отдавал предпочтение Грегорио, который по крайней мере был старым, был как земля, как деревья. Я отдавал предпочтение Дино, таинственному ростку потаенного будущего.
Эгле сообщила мне, что ее брат опять сражается. И у него была своя судьба. Что еще мог делать этот парень? Таких как он, которые не имели веры в войну, но война стала их судьбой, — война шла повсюду и никто не научил их заниматься чем-нибудь другим — было много. Джорджи — человек немногословный. Он только сказал: «Мой долг там, наверху». И вновь отправился воевать. Он не протестовал, не пытался понять.
Кто протестовал, но все равно не понимал, так это его близкие. Об этом я узнал от Эгле, которая каждое утро в поисках молока, яиц, сплетен проходила около калитки. Она останавливалась, чтобы поболтать со старухой или с Эльвирой, и в слухах, в шепоте я слышал отзвуки разговоров в гостиной Джорджи, хорошо известного мне мира, кабинета ее отца, собственника и промышленника. Как дела на войне? Хуже чем прежде. Что сделали фашисты, позволив себя свергнуть? Еще один великий, благородный поступок, жертва, чтобы возродить мир и согласие в стране. И как же на это ответила страна? Ответила забастовками, предательством и местью. Пусть продолжают. Есть тот, кто об этом думает. Все вернется на круги своя раньше, чем мы думаем.
Так ворчала мать Эльвиры, так начала и Эгле, которая всех видела и обо всех все знала. «Мы» говорила она, подразумевая отца, гостиную, особняк. «Кто больше нас пострадал от войны? Наш дом в Турине разрушен. Там остался привратник. Нам приходится жить на холме. Мой брат опять воюет. Два года он рискует собой и сражается. Почему эти бунтари недовольны нами?».
— Какие бунтари?
— Да все. Люди, которые еще не поняли, почему мы воюем. Бандиты. И вы с ними знакомы.
Сказав это, она, наклонив голову, такая у нее была привычка, мне подмигнула.
— Я не знаком с бандитами, — отрезал я, — я знаком с людьми, которые работают.
— Вот вы и рассердились, — она весело взглянула на меня. — Мы знаем, что вы ходите в остерию, знаем, кто там собирается…
— Бред какой-то, — резко оборвал я, — и кто же там бандиты?
Эгле замолчала и с обиженным видом опустила глаза.
— Я знаю только тех бандитов, — сказал я, — которые навязали нам войну, и тех, кто на них еще надеется.
Тяжело дыша, она гневно смотрела на меня. Она напоминала пойманную на месте преступления, разозлившуюся школьницу.
— Твой брат ни при чем, — ответил я. — Твоего брата обманули, он расплачивается за других. По крайней мере он смелый. У других и этого нет.
— Он очень смелый, — раздраженно подтвердила Эгле.
На этом мы расстались. Но история с остерией только начиналась. Как-то, когда я вошел на кухню, где Эльвира взбивала сливки (кухня была ее царством, она хотела соблазнить меня сладостями, но мать не одобряла ее ухищрений), я ей сказал: «Голод сюда не добрался».
Она подняла голову: «Больше ничего нельзя найти. Ни яиц, ни масла, даже за деньги. Все скупают те, кто раньше ел вареную картошку».
— У нас всегда все есть, — ответил я.
Эльвира нахмурилась, повернулась ко мне спиной и пошла к печке.
— Все скупают остерии, где шумно кутят до утра.
— И спят на земле, — продолжил я.
— Я ничего не хочу знать, — взорвалась, повернувшись ко мне, Эльвира. — Они не такие люди, как мы.
— Это уж точно, — подтвердил я, — намного лучше нас.
Прижав руки к горлу, она с возмущением смотрела на меня.
— Спросите Бельбо, — предложил я, — он, как и я, ладит с этими людьми. Только собаки и могут оценить ближнего.
— Но они…
— Бандиты, я знаю. И слава Богу. Вы думаете, что в этом мире есть только попы и фашисты?
Почему я так говорил, я давно забыл. Я только знаю, что Кате не ошибалась, говоря, что я был злым, высокомерным, и что я боялся. Она также сказала, что и добрым я был против своей воли. Этого я не знаю. Но каждому я говорю противоположное, всегда стараюсь казаться другим. И я чувствовал, что время поджимает, что все было бесполезно, тщетно, уже отжившим. В тот день, когда мы поцапались с Эльвирой, точнее в полдень, неожиданно прозвучал сигнал тревоги. Холм, долина, далекий Турин все притихло под тревожным небом. Я остался в саду. Я спрашивал себя, сколько в этот миг замерло сердец, сколько листьев на деревьях задрожало, сколько собак прижалось к земле. И земля, и холм и все, что его покрывало, должны были содрогнуться от ужаса. Я вдруг понял, насколько глупым и ничтожным было то, что я, даже гуляя с Дино, продолжал радоваться лесам. Под летним небом, окаменевшим от воя сирены, я понял, что всегда играл роль безответственного мальчишки. Разве для Кате я не был таким же ребенком, как Дино? Кем я был для Фонсо, для других, для себя?
Я долго, трясясь от страха, ожидал гула моторов. Тревогу этих дней, непереносимую в этот час, могло прогнать только какое-нибудь огромное, непоправимое несчастье. Но не было ли и это моей привычной игрой, моим пороком? Я думал о Кате, Фонсо, Нандо, о несчастных туринцах, которые, скопившись в бомбоубежищах, как в катакомбах, пережидают тревогу. Кто-то шутил, кто-то смеялся. «Макароны совсем разварятся», — говорили они.
Кровь и жестокость, подземелья, заросли, не были ли и они игрой? Не были ли и они такими же дикарями и комиксами Дино? Если Кате умрет, подумал я, кто позаботится о ее сыне? Кто будет знать, мой ли это сын?