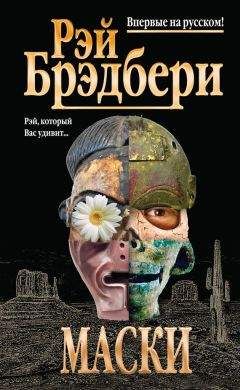В Театре Арто, мегамашине желаний, ничего общего не имеющей с местом, где стоят три стены и дурацкая вешалка, разыгрывается преображение материи, гностическая драма — только такой обряд соизмерим с Духовной Чумой. Однако выполнение этих колоссальных намерений сам Антонен, будто не чуя подмены, связывает с работой в исторически сложившихся формах искусства, которые, как их ни реформируй, не приспособлены для подобных задач. Ему кажется, что если выхолощенное европейское театральное зрелище, погрязшее в болтливой психологии, адюльтере, общественных проблемах, возвести в бессловесное квазиелизаветинское неистовство или в пляшущую магию восточно-балийского типа, то иссушенные корни представления воскреснут, а вслед за ними целый мир, в котором закричат молчаливые вещи. Нет, это будет опять-таки театр, программки, билетики, обычный спектакль, не Театр, не Чума. Арто, впрочем, сознавал это сам, просто его окружала безвыходность. Он знал, что от искусства нужно добиваться несбыточного, ибо зачем еще оно нужно. Поэтому он и не мог смириться с тем, что уже тогда, в эпоху творчества и великой энергии, наваливалось на него, как пророческое заклятие, а сейчас, спустя более полувека после гибели Антонена, обрело черты кандально-будничного приговора. Искусство, в тех формах, в каких оно выступает сегодня, а других не дано, сколько ни обновляй их, не справляется со своим назначением. Простительным было бы даже и это, не может — и ладно, стояло б в углу разжалованным гороховым чучелом, стыдясь за немочь свою, неумение отпугивать ворон. Так нет же — твердит о своей удивительной сложности, хочет к себе специального отношения, козыряет благоуханными учреждениями на деньги шоколадных монархов посткапитализма. В стихотворении одного поэта, с тех дней написавшего центнер шумной, барабанно-разоблачительной прозы, сказано, что вот всюду твердят, будто современное искусство — очень сложная, очень тонкая штука, вроде микрофизики; да подите вы к черту, воскликнем мы с поэтом на эти разглагольствования. Действительно сложен американский авианосец, он идет по волнам, стреляет и служит площадкой для летающей техники. Тогда как искусство бессильно. Обидней всего, что об этом нельзя говорить без изжоги, банальная, прогорклая тема, но говорить приходится.
Никогда в мире не было так много искусства, и никогда оно не относилось с таким пренебрежением к духу и мировому событию. Неправда, что люди равнодушны к искусству, ибо редко в какие эпохи наблюдалось такое душевное беспокойство, как нынче, лишь в считанные, избранные времена было столь дивное соединение алчности, энергии, ярости и безрассудного бескорыстия. Люди воюют во всех частях света и убивают друг друга, они очень много работают, но даже избыток труда не мешает им ждать конца света в многочисленных сектах, им близки откровения газового буддизма, они слышат его нервно-паралитический «Аум» над страной и готовы радиально, сродни солнечным лучам с древних изображений, самоубийственно улечься голова к голове на жирную, жадную землю усадебки Кореша, а в те же минуты старый актер с нарицательным именем Билли Грэма продолжает улов-лять стадионы, и стоит ему под занавес своего протестантского чуингама воззвать к всенародному покаянию, как десять тысяч спелыми гроздьями падают вниз со скамей. Искусство ни в чем, ни в чем не участвует, хотя его голоса ждут, и он был бы расслышан, если б в распоряжении contemporary art имелись мысль и поступок. Скажут, что искусство — не война, не религия, не сектантское братство, не что угодно другое. В таком случае, и Арто писал об этом без устали, ему придется стать войной, религией, братством сектантов, чем угодно другим, если, конечно, искусство снова хочет соприкоснуться с тканями мира, с той самой реальностью, которой, дабы оправдать неприличие ситуации, был подло выдан сертификат небытия. Утверждают, что она не существует, что она обнаруживает себя в собственном неприсутствии. Ладно, допустим, будь по-вашему, пусть, я повторяю за вами, что реальность как чувственная, тактильная, конкретно-событийная ощутимость мира, не аннигилированная всевластием знаково-символических опосредовании, — это утопия, но к ней и надо прорываться художнику, ибо иной реальности не бывает.
Как всегда, одна из возможностей преодоления, и этому тоже учит жизнемысль Антонена Арто, связана с личной жертвой и риском, которые нельзя переложить на дружелюбных соседей, как натрудившую плечи поклажу. Давно было сказано, что риском не делятся, а берут его весь на себя, щедрость тут неуместна. Риск неповторим, как не повторяется боль, своя, персональная, и та, которую ты заставляешь испытать других. Ведь не получится думать, что вот эта боль — отражение предыдущей и первообразной. Она так сильна, словно ее отродясь ни у кого не бывало, и тело, о чем поведал в своих записях и рисунках Арто, переживает ее как абсолютную данность, не задумываясь о канонических эмблемах мучений — разве порой ища в них утешения, если мозг еще не затоплен. Как самостоятельно находят свою мысль, так находят и риск, плагиатом он запятнан не будет. В конечном счете риск и опасность сегодня встретят тех, кому надоело участвовать в холодных отыгрышах все того же древнеегипетского материала. Ни на минуту эти выставочные церемонии не позволяют забыть, что «курить хочется», как выругался Чехов, стоя перед тогдашней гладенькой живописью.
Иногда говорят, что художник обращает в искусство все, к чему прикасается. О, до этого путь в тысячу лет, но в комплименте отпечаталось бессознательно-верное понимание артистического призвания. Если бы художник умел делать то, что вменяется ему в заслугу, он был бы святым. Он освящал бы предметы прикосновением, выводя их из пленного, падшего состояния. Он мог бы исполнять заповеди духом единым, не исполняя их во плоти. «Рабби, соверши благословение над свининой, и она станет кошерной», — говорит старая притча. В этом святость, во власти над предметами, в причастности чуду. Рано умершие Ив Кляйн и Пьеро Манцони были уверены в обязательности такой судьбы для художника. Когда Кляйн проектировал райский сад и устраивал огненные действа, чтобы все ожило и было «светлым», когда Манцони решил раздавать свою кровь в аккуратных флакончиках (свои экскременты, merde dell' artista, он успел собрать и упаковать до того), они тянулись к этому идеалу, ради которого извел себя Арто.
Неоднократно искусство проходило чрез смерть, без коей немыслимо второе рождение, и всякий раз в проницательных умах возникала все та же идея спасения. Искусству следует быть претворяющим, чудотворным, или его не будет совсем. Вспомним и страшное, до упора старомодное и непристойное слово — теургия, которое берется здесь в старинном неоплатоническом смысле, переданном Л. Лукомским, русским переводчиком трактата Ямвлиха «О египетских мистериях»; с ним сверялись многие поколения герметиков: «Если взять наиболее общее и потому наименее полное и содержательное определение, то теургия — это заповеданное богами совершенное жреческое служение, происходившее прежде всего у так называемых священных народов — египтян и ассирийцев (халдеев). Именно таким определением и пользуется Ямвлих, никоим образом не желая, а возможно, и не будучи в состоянии, посвящать кого бы то ни было в тонкости жреческих таинств. Самое главное для него — это предельно осмыслить и наполнить <…> метафизическим содержанием такое общее определение, апеллируя не к скрытому в недоступных для непосвященных глубинах святилищ, но к явному и хорошо известному, встречающемуся даже в повседневной жизни». Роль искусства, если внимательно вчитаться в Арто, состоит в том, чтобы неметафорически изменять природу вещей, добиваясь круговорота превращений; это и есть теургия, общение с богами, жреческое служение, ведь и Те-;ггр Жестокости замышлялся как регулярное священнодействие с практическими результатами обрядов. Раскрывая внутреннюю структуру предметов, событий, поступков, искусство добивается освобождения их от тяжести тварного мира и перевода в райское состояние, каковое возникает там, где материя уступает место даже не смыслу, а значению — в том смысле, что все принимается существовать со значением. Такой рай может явиться всюду, в любой точке пространства, на котором искусство развертывает свои операции по переводу материи в значение. Уже затем очищенные от тяжести предметы (т. е. предметы и вправду освобожденные и тотально проницаемые светом, а не просто переброшенные в разряд «знаковых систем»), в которых, как плод в прозрачном материнском чреве, дышит идея, начинают излучать исцеление — без него Арто опять-таки не представлял себе искусства. Ничего этого сегодня нет и в помине, а раз так, то искусство могло бы на время избавить мир от себя, не дожидаясь, пока его расформируют, как струсивший полк. Глядишь, через несколько десятилетий по нему бы соскучились и ему было бы что предложить после обязательной децимации, строгого покаяния, чистки, столпничества и акрид. А эпоху отсутствия стоило бы использовать для обучения утраченной власти и магии, для аскетического опыта вопрошания главных сил, для обитания в новой ессейской общине художников, откуда был бы изгнан всякий, кто воспринял бы эту совместную жизнь как игру. Но такого максимализма от современных художников и современных людей требовать трудно.