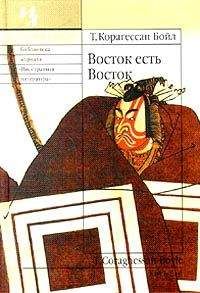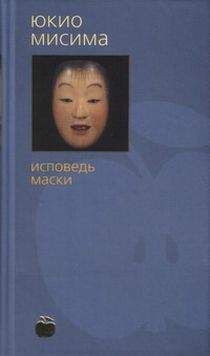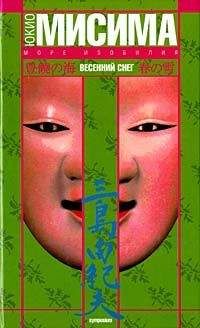Езды было миль десять, почти весь путь без малейшего уклона, как по столу, и обычно это было ему раз плюнуть — он мог хоть дважды без остановки проехать туда и сюда, даже не запыхавшись. Но сегодня ему не по себе что-то было — видать, жара сказывалась, и хотя он отдыхал где только можно, каждый раз, как он нажимал на педаль, ему сдавливало грудь, словно на нее петлю накинули. Едва он упирался ногой, петля затягивалась, выдавливая из легких воздух, — не вздохнуть прямо. Больное бедро тоже вело себя не ахти, да и рука, которая вздулась и мокла под полутораярдовым куском чистого бинта, горела не хуже, чем в тот день, когда чертов китаец вздумал поджарить ее в масле. Мили через три, только-только проехав магазин Криббса, он решил было вернуться, так его скрутило, на потом подумал об этой беспомощной белой старушонке с лежачим мужем, прикинул, что еще столько же — и выйдет уже больше, чем полдороги, и налег на педали.
За мостиком через Тыквенный Лог он почувствовал себя лучше. Внизу на гниющем стволе он увидел черепах, вытянувшихся цепочкой, словно костяшки домино — он мог бы плюнуть на них, если б захотел, — и ему вспомнилось, как в детстве они с Уилером выуживали черепах старым оконным крючком, вспомнился вкус похлебки, которую варила из них мать, вспомнилось, как они с братом прибивали пустые панцири к южной стене дома, пока всю ее не покрыли. Когда он проезжал через Холлиуэйс-Медоу, где из пня от каждого из дубов, срубленных на постройку флота конфедератов, выросло по новому дереву, его костлявые старые ноги задвигались живее, а петля чуток ослабла.
Под одним из этих пней мальчиком он нашел птенца совы-сипухи, неоперившегося малыша, самого слабого из выводка, в котором, кроме него, было еще двое. Этот собрался уже отдавать Богу душу — братец с сестричкой почти затоптали его когтистыми ногами и расклевали ему голову и одну сплошную рану. Он давал птенцу рыбу, которую тот не стал есть, и мышей — они понравились. Когда мама увидела, как он режет мышь на кусочки большим отцовйсим ножом, она решила, что он спятил; все же он выходил птенца, потом подрезал ему крылья, и тот его полюбил, но в конце концов его загрызла собака. С тех пор прошло, считай, лет шестьдесят, и теперь, въезжая в ворота Прибрежных Поместий и сворачивая налево, в проезд Соленых Ветров, он удивлялся, как это он все так помнит и какая же это сила — человеческая память: взяла и вытащила его из-за руля велосипеда и из жары этой и перенесла назад, через все тягучие годы. Но когда он подъезжал к Бустерам, невесть откуда роем налетели зеленые мухи, и петля опять стала затягиваться, и он вернулся в нынешнее. Он почувствовал вкус пота, стекавшего к углам рта.
Ладно. Посидеть минутку на корточках в теньке, где так приятно холодит высокая трава, потом вволю напиться из садового шланга, и давай трудись. И не надо идти к ним, не надо говорить ничего. Сами увидят в окно, как блестит на солнце его мачете, услышат, как он будет заводить газонокосилку, и скажут: «А, это Олм-стед Уайт — надо же, вкалывает в такую жару, скорей налить ему стакан лимонаду, да водки туда плеснуть, как он любит».
Он присел на корточки, и петля дала слабину. Потом склонился к шлангу, и прохладная вода его оживила, можно бы начинать, если бы не опять эта чертова боль в бедре и не соленый пот, который жидким пламенем жег больную руку. Плевать я хотел на врачей, подумал он, покрепче стянул бинт здоровой рукой, сунул ту, другую под воду и держал, пока не смыло всю соль и жжение не утихло. Потом вынул мачете и начал подрезать кусты короткими быстрыми движениями кисти.
Поработав с полчаса или побольше, он оказался с той стороны дома, что выходила к морю; там, за низенькими воротцами, увитыми глицинией, виднелся бассейн. У бортика кто-то сидел, и это его удивило — не только потому, что жарко было, но и потому, что старуха с мужем не обращали на бассейн никакого внимания и позволяли ему между приходами чистильщика бассейнов вовсю зарастать зеленью, что твой пруд. Внук, что ли, приехал из колледжа. В последние годы он время от времени тут показывался — то вокруг дома шатается, то парома ждет, то носится как угорелый в своей красной спортивной машине в магазин Криббса и обратно, в общем, ничего парнишка, хотя глаза как-то слишком широко расставлены и стрижется, как сорок лет назад стриглись. Черт, он ухмыльнулся, появись вдруг у мальца на голове прическа с Эм-ти-ви, он и не понял бы, что это такое. Мачете посверкивало; но вот раздался всплеск, и, обернувшись, Олмстед Уайт увидел крути на воде, мокрые бултыхающиеся конечности и гладкие, как выдрина шерсть, волосы — глянул мельком и тут же забыл.
Покончив с кустами остролиста вокруг дома, он пошел к бассейну. В прошлый раз он глицинию не трогал, и теперь она разрослась черт знает как, пуская во все стороны змеиные побеги, и вид имела неважный. Он шел через лужайку, опустив здоровую руку с мачете, и вспоминал мать — вот вам еще один фокус памяти, когда окружающее у тебя из головы как ветром выдувает и в тебя, теснясь, входит прошлое во всех своих важностях и неважностях. Сейчас он видел только одно, одна-единственная картина влезла к нему в мозг и не уходила: мама хлопочет у плиты, они с Уилером и папа сидят за столом, в ушах стоит неистовый, ведьминский вой урагана, окна трясутся, по крыше скребут чьи-то когти, а мама как ни в чем не бывало наклоняет чугунную сковороду, чтобы растеклось масло, и шлепает на нее новую порцию кукурузных лепешек. Пока вспоминал, ему полегчало; но вот он поднял глаза, встретился взглядом со старухиным внуком и увидел, что внук таращится на него, как на привидение.
И это было начало конца, это было узнавание. Не внук он вовсе, какой там внук — петля внезапно впилась в грудь со страшной силой, — он… он… у Олмстеда Уайта не осталось слов, чтобы выразить то, что он увидел, только гнев трещал в нем, как жир на раскаленной сковороде. Подняв над головой руку с мачете, он сделал три шага вперед, вглядываясь в эти китайские глаза, нос, рот и уши, что вновь явились над ним измываться. «Сволочь!» — крикнул он или, скорей, попытался крикнуть; слово застряло у него в горле и принялось душить его — петля… удавка… две петли… и что-то у него внутри вдруг подалось, и он рухнул лицом в водяную глубь, зная, что никогда больше ему не будет трудно дышать. В то утро — шестое утро в доме Бустеров — Хиро проснулся от запаха жареной ветчины и яичницы с помидорами, а еще от звуков смутно знакомой симфонической музыки — кажется, русской или европейской. Он облачился в свежевыстиранные шорты (Эмбли Вустер, пустившись в рассуждения о джинсовых тканях — тайваньских, корейских и фирмы «Джордаш», пыталась всучить ему джинсы внука, но они на него не налезли), натянул серую футболку и плотные хлопчатобумажные носки, обулся в высокие кроссовки «Найк», которые оказались ему как раз по ноге, и сбежал вниз завтракать.
Звуки оркестра приветственно окрепли; повернув за угол и войдя в освещенную солнцем гостиную, он встретился взглядом с утренней служанкой Долли, которая тут же, как мышка, шмыгнула прочь. Если ее сменщица Вернеда была крепко сбита и подозрительна, то с Долли все наоборот: субтильная и нервная, она все время отводила глаза в сторону. Прическа ее была настоящим парикмахерским чудом, а желтовато-коричневая кожа напоминала цветом форменную куртку, в которой Хиро мальчиком ходил в школу. Она ретировалась в столовую, предоставив Хиро отвешивать глубокие поклоны хозяину и хозяйке, которые завтракали за столом у окна-фонаря, выходящего на море. От стекла шло сияние. Над их головами висели чайки. За пением скрипок угадывался шум прибоя,
— Сэйдзи! — воскликнула старая дама, глядя на него с хитрым видом: голова склонена набок, размазанная губная помада скрадывает кривую улыбку. Он видел, как она силится сдержаться, кусает губу, стараясь укротить поток банальностей, который, как бич, гонял ее язык между небом и губами каждую секунду бодрствования. — Охайо, — поздоровалась она с ним по-японски, борясь со своим непоседливым языком, даже глаза выпучила от натуги.
Он еще раз поклонился.
— Охайо годзаимас, — сказал он и поклонился главе семьи. Но тому было все равно — он был слепоглухонемой и торчал, подпертый в своем кресле с колесами, как воронье пугало на шесте.
На столе были ломтики ветчины, яичница с помидорами, тосты, масло, кофе и джем. Не ахти какой завтрак; он предпочел бы о-тядзукэ — рис в зеленом чае, — но ему грех было жаловаться после скитаний по болотам, после крабов и кузнечиков, после достопамятной трапезы, состоявшей из растворимого кофе, соевой забелки и сахарина. И все же американцы обращаются с едой по-варварски — валят все в одну кучу, не думая ни о красоте, ни о соразмерности, как будто еда — это что-то постыдное; если бы не голод, он ни за что бы не взял это в рот. Он выдвинул стул, чтобы сесть.
— Неужели вы ничего не замечаете? — спросила старушонка, вся дрожа от усилия обуздать буйную речевую поросль, потоки слогов, слов и фраз. Он озадаченно застыл, так и не сев.