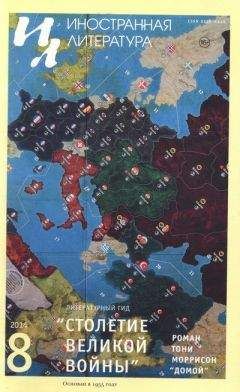Я пойду, Корделия бросила окурок на землю и затушила его мыском матерчатой туфельки-балетки; рыжий верзила пристально наблюдал за медсестрой: получше? Всё хорошо. Пока, она кивнула, развернулась и устремилась внутрь здания; дорога назад давала передышку, и девушка решила ею воспользоваться, чтобы прийти в себя до возвращения в отделение, где сейчас работа кипела вовсю: вечерняя нервозность, возбуждённые пациенты, последние процедуры перед ночным сном, последние перфузии, последние таблетки, — а ещё это изъятие органов, которое начнётся через несколько часов: Револь спросил, сможет ли она остаться на всю его смену, продлить дежурство, поработать в хирургическом блоке, исключительная просьба, — и Корделия согласилась.
Она завернула в кафетерий, чтобы взять в автомате с горячими напитками протёртый томатный суп; её можно было увидеть бредущей по огромному ледяному холлу, тщедушная фигурка, сжатые челюсти, а затем стучащей кулачком по автомату в надежде его поторопить; пойло оказалось вонючим и таким горячим, что пластмассовый стаканчик под пальцами искривился, но Корделия выпила его залпом и сразу же согрелась; вдруг она увидела их: они прошли мимо — отец и мать, родители того молодого человека из седьмой палаты, которому она ставила зонд во второй половине дня; того, который умер и у которого сегодня ночью заберут все органы, — это были они; медсестра следила за тем, как медленно приближаются они к высоким стеклянным дверям; она прислонилась к массивному пилону, чтобы лучше видеть: в этот час стекло превратилось в зеркало, и родители усопшего отражались в нём, как призраки в глади пруда зимней ночью; они были тенями самих себя — именно так сказал бы любой, кто взялся бы описать супругов Лимбров: банальность — но именно это выражение, как никакое другое, отражало состояние этой пары, подчёркивало, что ещё утром они были обычными мужчиной и женщиной, живущими в этом мире; и вот сейчас, наблюдая за тем, как Шон и Марианна идут рядом по блестящему полу, залитому холодным светом, каждый понял бы, что отныне эти двое идут по дороге, на которую ступили несколько часов назад; что они больше не живут в том мире, в котором существовала Корделия и другие обитатели Земли; что они удаляются от него, отлучаются и перемещаются в иную область, где, возможно, побудут некоторое время вместе с другими безутешными родителями, потерявшими своих детей.
Взгляд Корделии был прикован к этим фигурам, которые, по мере приближения ко входу парковки, постепенно уменьшались, размывались ночной темнотой; затем девушка вскрикнула, оторвала себя от пилона, встряхнулась, как жеребёнок, схватила телефон; её лицо снова разрумянилось и ожило, колебания маятника неслыханной силы, внутри что-то перевернулось, и это нечто бросило её вперёд, заставило поспешно набрать телефонный номер мужчины, исчезнувшего в пять утра, словно Корделия хотела разом освободиться и от него, и от тупой покорности судьбе, порождённой грустью; словно хотела сразиться с тем болезненным состоянием, навалившимся на неё, и напомнить себе о возможностях любви. Один, два, три гудка, — затем голос этого типа, который на трёх языках просил оставить ему сообщение на автоответчике; я люблю тебя, и она отключилась, странно успокоенная, взбодрившаяся, избавившаяся от тяжкой ноши: внезапно Корделия почувствовала, что вся жизнь ещё впереди, и сказала себе, что всегда плачет, когда устаёт, — и вообще, ей не хватает магния в организме.
* * *
Лу. Они не позвонили Лу; даже не попытались ей позвонить, поговорить; не подумали о ней — только попросили прошептать её имя на ухо брату в ту минуту, когда ему остановят сердце. Но Лу, семилетняя девочка, её страх — увидеть, как мать срочно уезжает в больницу, её ожидание, её одиночество, — они не подумали обо всём этом и тщетно противостояли циклоническому давлению смерти, покорно исполняли свои роли в драме; они не могли найти себе оправдания и чуть с ума не сошли, обнаружив в мобильном Марианны номер соседки, а также голосовое сообщение, прослушать которое у них уже не было сил; и вот теперь Марианна давила на газ, шепча куда-то в лобовое стекло: мы едем, мы уже скоро будем дома.
Зазвонили колокола церкви Сен-Венсан; небо напоминало серый, оплывший воск свечи. 18:20. Лимбры поднялись по прибрежным виражам Энгувиля и нырнули в подземный паркинг жилого здания, возвращение: не будем расставаться этим вечером, сказала Марианна, заглушив мотор, но найдут ли они в себе силы расстаться этой ночью: Марианна останется здесь, вместе с Лу, а Шон вернётся в двухкомнатную квартирку, снятую наспех в прошлом ноябре в Дольмаре?[102] Марианна никак не могла попасть ключом в замочную скважину, потом ключ не желал поворачиваться в замке, тихое металлическое звяканье, и всё это время Шон стоял у неё за спиной, не двигаясь; когда наконец дверь открылась, они оба словно потеряли равновесие и не вошли, а «провалились» в квартиру. Супруги не стали зажигать свет; они легли диван, который в далёкий дождливый день нашли на обочине сельской дороги упакованным, как конфета, в прозрачную обёртку; сейчас стены вокруг Шона и Марианны превратились в промокательную бумагу, впитывающую этот коктейль, приготовленный из старого железа, который разливают сумерки: на нескольких картинах появились новые фигуры; формы изменились; мебель надулась; стёрлись узоры с ковра; комната стала напоминать фотобумагу, забытую в ёмкости с проявителем; и эта метаморфоза — постепенное исчезновение пространства, потемнение всего, что их окружало, — загипнотизировала Лимбров; ощущения физического страдания, которое они испытывали, оказалось недостаточно, чтобы вернуть их в реальность; сон, ночной кошмар; всё закончится тем, что мы проснёмся, говорила себе Марианна, таращась в потолок; впрочем, если бы Симон вернулся домой в это самое мгновенье; если бы он, в свою очередь, повернул ключ в замке, а потом вошёл в квартиру, громко хлопнув дверью, один и тот же неловкий жест, создающий массу шума, который непременно сопровождал появление молодого человека в доме и провоцировал обязательный крик матери: Симон, сколько раз тебе говорить: не хлопай дверью; если бы он вошёл сюда в этот самый момент, доска для сёрфинга, зажатая под мышкой, тихонько поскрипывает в чехле; влажные волосы, руки и лицо посинели от холода; Симон, измотанный морем, — Марианна первая поверила бы в это, встала бы с дивана, подошла бы к сыну предложить ему яичницу с болгарским перцем, или спагетти с соусом, или что-нибудь горячее, укрепляющее; нет, она не приняла бы его за привидение — просто ребёнок, вернувшийся домой.
Марианна подняла руку, чтобы коснуться ладони Шона, или его руки, или бедра — не важно, какой части тела: просто коснуться, — но её рука шарила в пустоте, потому что Шон уже встал и скинул парку: я спущусь за Лу. Он уже направлялся к выходу, когда раздалась трель дверного звонка; Шон открыл; малышка, воскликнула Марианна.
Возбуждённая девочка бегом ворвалась в квартиру; поверх своей одежды она натянула длинную яркую футболку, повязала волосы платком, и кто-то пластырем закрепил у неё на спине два крыла бабочки; лёгкий тюль, переливающийся всеми цветами радуги, у неё тоже были чёрные жёсткие волосы, матовая кожа и чуть раскосые глаза метиски; малышка резко затормозила перед отцом; её удивило, что он здесь, в квартире, без куртки: ты вернулся? Позади Лу, на лестничной клетке, маячила соседка; она не стала заходить, а лишь просунула голову в дверь, пластика жирафа; её лицо превратилось в один большой вопрос: Шон, вы уже вернулись? Мы вернулись пару минут назад, короткая фраза, больше он ничего не добавил: не хотел разговаривать. Лу, подпрыгивая на месте, рылась в своей сумке, потом протянула отцу лист бумаги: вот, это я нарисовала для Симона, затем девочка прошмыгнула в гостиную, обнаружила мать, лежащую на диване, и неожиданно спросила: а где Симон? он всё ещё в больнице? Не дождавшись ответа, она крутанулась на месте и бросилась в коридор; крылья затрепетали; слышно было, как маленькие ножки топают по полу, как Лу открыла дверь в комнату брата, позвала его, как захлопали двери в другие комнаты и снова повторилось то же имя, — и вот ребёнок уже снова возник перед родителями, которые растерянно молчали, переминаясь с ноги на ногу; они не могли подыскать никаких слов, кроме «тише, Лу», — а в это время соседка побледнела и отпрянула; она выписывала какие-то знаки указательным пальцем, давая понять, что всё поняла, что не будет их беспокоить, и прикрыла дверь.
День умирал там, на западе, понемногу погружая город в темноту; девочка стояла перед родителями, чьи фигуры превратились в расплывчатые силуэты. Марианна и Шон сделали шаг; малышка не двигалась, хранила молчание, а её глаза пожирали темноту, белки глаз, словно каолин;[103] Шон подхватил дочь на руки, Марианна обняла их, — три тела сплавились в одно: закрытые веки, памятник потерпевшим кораблекрушение, установленный в порту на юге Ирландии; затем они вновь вернулись на диван, улеглись по диагонали, не разрывая кольца рук: римская триада, защищающая себя от внешнего мира; закуклились в собственном дыхании и запахе кожи: малышка пахла булочками и конфетами «Харибо»; впервые после катастрофы они ощутили, что дышат; впервые обнаружили каверну-убежище внутри собственной подавленности; и если бы кто-то тихий и незаметный приблизился к ним, подкрался на цыпочках, он услышал бы, как бьются их сердца; бьются в такт, перекачивая ту жизнь, которая ещё осталась; как суматошно эти сердца стучат, словно на их створках и клапанах разместили чувствительные датчики; как сердца эти испускают инфразвуковые волны, которые пронизывают пространство, проходят сквозь предметы, — чёткие, точные волны, устремляющиеся к Японии, к Сето-Найкай, к небольшому острову, к дикому пляжу и к деревянной хижине, в которой хранятся удары человеческих сердец, сердечные следы, собранные по всему миру, привезённые сюда теми, кто отправился в долгое путешествие; и если сердца Марианны и Шона бились в одном ритме, то сердце Лу барабанило быстрее, — именно поэтому она первая не выдержала, приподнялась, лоб покрыт испариной, и выпалила: почему мы сидим в темноте? Проворный котёнок, малышка выскользнула из родительских объятий и вихрем промчалась по комнате, зажигая все лампы, одну за другой; потом она развернулась к маме с папой и объявила: я хочу есть.