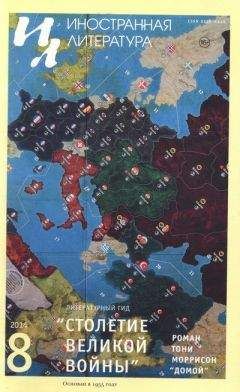— Есть сердце. Совместимое. Бригада врачей отправится за ним немедленно. Трансплантация назначена на эту ночь. Будьте в хирургическом блоке около полуночи.
Повесив трубку, женщина начала задыхаться. Она повернулась к единственному окну в комнате и стала вставать, чтобы открыть его; оперлась обеими руками о письменный стол, чтобы подняться: три следующих шага дались с трудом — а сколько усилий ещё понадобится, чтобы повернуть шпингалет. За рамой притаилась зима — застывшее, полупрозрачное, ледяное панно. Оно впитало в себя звенящий уличный шум, ставший приглушённым, словно вечерний гул в провинциальном городе; нейтрализовало скрип надземного метро, тормозящего на входе у станции Шевалере; сцапало запахи и швырнуло в лицо охапку замёрзшего воздуха, холодная, липкая плёнка; женщина вздрогнула, медленно перевела взгляд на другую сторону бульвара Венсана Ориоля и остановила глаза на окнах здания напротив: именно там находилось кардиологическое отделение госпиталя Питье-Сальпетриер, которое она посетила три дня назад для очередного обследования, показавшего, что состояние её сердца существенно ухудшилось; после этого кардиолог дал заявку в Биомедицинское агентство, чтобы его пациентку внесли в список реципиентов, нуждающихся в срочной трансплантации: в листе ожидания её имя должно стоять одним из первых. Она подумала о том, что в данную минуту всё ещё жива, и сказала себе: я спасена, я буду жить; она говорила себе: а вот чья-то жизнь прервалась самым жестоким образом; она повторяла: сейчас, этой ночью; она пробовала на вкус полученное известие; она хотела, чтобы настоящее не кончалось, чтобы оно стало инертным; она говорила себе: я смертна.
Она ещё долго вдыхала зиму закрытыми глазами: синяя планета, завернувшись в газовую вуаль, дрейфовала в морщине у космоса; звёздный свет заливал опушки леса; рыжие муравьи суетились в липком желе у подножия деревьев; сады расширялись — мхи и камни, трава после дождя, тяжёлые кроны, корневища пальм; город распухал от влаги; дети, спящие в двухъярусных кроватях, открывали глаза и смотрели в темноту; она представила себе своё сердце: сочащийся, волокнистый комок тёмно-красной плоти, от которого отходят сосуды; орган, охваченный некрозом и слабеющий с каждым днём. Она снова закрыла окно. Надо собирать вещи.
Вот уже почти год Клер Межан жила в этой двухкомнатной квартире, которую сняла, даже толком не осмотрев: близость Питье-Сальпетриер и второй этаж — этого оказалось достаточно, чтобы она выписала какому-то типу из агентства чек на огромную сумму; грязная, маленькая, тёмная квартирка; карниз балкона третьего этажа, словно козырёк у фуражки, не пропускал дневного света. Но у неё не было выбора. Вот что значит быть больной, говорила она себе: сердце лишило её права выбирать.
Миокардит. Это слово она услышала три года назад на консультации в кардиологическом отделении госпиталя Питье-Сальпетриер. За неделю до того это был обычный грипп; она помешивала кочергой угли, потрескивавшие в очаге, и куталась в плед, а за окном, в саду, львиный зев и пурпурная наперстянка сгибались под порывами ветра. Она посетила врача в Фонтенбло, рассказала ему о высокой температуре, о ломоте в суставах и о внезапно навалившейся усталости, но забыла упомянуть о приступах сердцебиения, о боли за грудиной, об одышке при физической нагрузке; она связала все эти симптомы с переутомлением, с зимой, с отсутствием света, с общим истощением организма. Из кабинета Клер вышла с рецептами на противогриппозные препараты; по совету врача, она не выходила из дому и работала, лёжа в постели. Через несколько дней она всё-таки выбралась в Париж навестить свою мать — и потеряла сознание: давление упало, кожа стала синюшной, холодной и потной. Под вой сирены скорой помощи, клише из американского фильма, Клер доставили в реанимацию и приступили к «расследованию». Первичный анализ крови показал воспалительный процесс; скоро стало ясно, что сбоит сердце. Затем началась череда обследований: ЭКГ выявила электрическую аномалию; рентген показал, что сердце немного расширено; наконец, УЗИ установило сердечную недостаточность. Клер осталась в госпитале; её перевели в кардиологию, где продолжили обследование. Коронарография исключила инфаркт — тогда медики решили сделать биопсию сердца: Клер пронзили сердечную мышцу через яремную вену. Спустя пару часов был готов результат обследования — грозный девятисложник: воспаление миокарда.
Атаку развернули по двум фронтам: начали лечить одновременно и аритмию, и сердечную недостаточность, поскольку сердце выдохлось и больше не желало эффективно перекачивать кровь. Клер предписали полный покой, никакой физической нагрузки, приём противоаритмических средств и бета-блокаторы; также ей имплантировали дефибриллятор, чтобы предупредить внезапную смерть от остановки сердца. В то же время медики боялись вирусной инфекции, поэтому выписали пациентке иммунодепрессанты и мощные противовоспалительные средства. Но болезнь перешла в самую тяжёлую стадию, распространившись на мышечную ткань: сердце всё больше растягивалось, и каждая секунда промедления могла привести к летальному исходу. Разрушение сердца Клер было признано необратимым — весь консилиум высказался за трансплантацию. Единственный возможный выход, единственный шанс на спасение.
В тот же вечер Клер вернулась домой. За ней заехал младший сын, он сам сел за руль и тихо прошептал: ты ведь согласишься, правда? Она машинально кивнула — она была раздавлена. Когда они приехали на опушку леса, в её домик из сказки, где отныне Клер жила совсем одна, дети выросли; она поднялась на второй этаж и легла плашмя на кровать, уставившись в потолок: страх пригвоздил её к матрасу, пронзил своими острыми когтями все грядущие дни, не оставил даже крошечной лазейки, — страх смерти, боли и операции; страх после операции; страх неудачи и того, что всё придётся начинать сначала; страх от одной только мысли, что в её тело будет вживлён чей-то чужой орган; страх превратиться в призрак, перестать быть собой.
Ей срочно нужно переехать: оставаясь в деревне, в семидесяти пяти километрах от Парижа и вдали от крупных автотрасс, она сильно рискует.
Свою новую квартиру Клер возненавидела сразу. Здесь было страшно жарко и летом, и зимой — и так темно, что свет приходилось включать даже днём; и конечно же шумно. Последняя шлюзовая камера перед операционной: Клер воспринимала эту квартиру как прихожую в апартаментах Смерти: ей казалось, что она здесь погибнет, не сможет отсюда выйти, и, хотя она не была лежачей, любое движение требовало сверхчеловеческого усилия, каждая ступенька причиняла боль, каждый поворот рождал ощущение, будто сердце вот-вот отсоединится от тела, вывалится из груди и упадёт, ненужная деталь; это была ловушка, превратившая её в жалкое, шатающееся, прихрамывающее создание на грани исчезновения. День за днём пространство вокруг неё скукоживалось, ограничивало её жесты, сковывало движения, суживало всё сущее; иногда Клер казалось, что ей на голову надели пластиковый пакет с какой-то волокнистой субстанцией, мешающей дышать, отравляющей жизнь. Она стала мрачной. Младшему сыну, который однажды вечером зашёл её навестить, она заявила: сама мысль о том, что во мне будет биться сердце мертвеца, выводит меня из себя; странная ситуация — и ты знаешь: я от неё устала.
Сначала Клер храбрилась и не желала обживать новую квартиру, считая её временным пристанищем. Но первые недели, проведённые на новом месте, изменили её отношения со временем. Не то чтобы время, парализованное болезнью, тревожным ожиданием или всем, что мешает двигаться, замедлило свой бег; не то чтобы оно застоялось, как застаивалась кровь в лёгких у Клер, — нет: время развалилось на фрагменты, лишилось своей обычной последовательности. Не было больше чёткой грани между днём и ночью — этому способствовал постоянный полумрак, царивший в квартире; Клер всё время спала, утверждая, что таким образом переживает шок, связанный с переездом. Старший и средний сыновья назначили днём посещений воскресенье, и это печалило больную, хотя сама она не понимала почему. Иногда дети упрекали мать в отсутствии оптимизма: ты живёшь прямо напротив Питье — лучше трудно придумать, говорили они, храня серьёзные лица. Только младший сын приходил, когда вздумается, и долго баюкал Клер в объятиях: он был выше матери почти на голову.
Отвратительная зима, злая весна, — Клер не видела, как зазеленел лес, как вновь обрели сочность цвета природы; ей не хватало лугов и подлеска, золотистых пней и кудрявого папоротника; не хватало света, пробивающегося сквозь кроны, птичьего многоголосия, наперстянки, растущей за лесом вдоль тайных троп, — безнадёжное лето. Клер слабела; тебе надо взбодриться; нужны ежедневный уход, полноценная еда; ты должна питаться строго по часам, вдалбливали Клер все, кто приходил её проведать и находил печальной, безжизненной, отсутствующей, в общем, хандрящей; красота черноглазой блондинки поблёкла, разъеденная беспокойством и недостатком свежего воздуха; волосы потускнели; глаза остекленели; изо рта шёл дурной запах; она всё время ходила в пижаме. Старший и средний сыновья бросились искать кого-нибудь, кто позаботился бы о матери, помогал бы по дому, взял бы на себя хозяйство, следил бы за приёмом лекарств. Узнав о затеваемой интриге, Клер встрепенулась и пришла в бешенство: они что, хотят окончательно лишить её свободы, которой и так у неё почти не осталось? Бледная, она с горечью бормотала: не желаю находиться под постоянным надзором — и не хочу больше говорить ни о здоровье, ни о болезни.