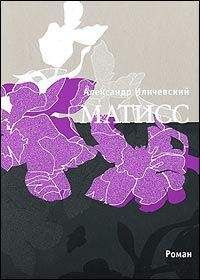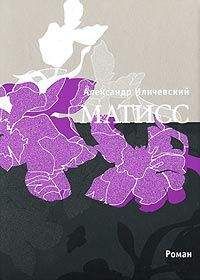В ночь перед отправкой Королев узрел страшный сон. Фон его составил куб воздуха, наполненный светом и пустыми птичьими клетками. На переднем плане плыл его любимый художник Матисс — уже старый, с запущенной бородкой, в треснутом пенсне, он озабоченно склонялся к невидимому предмету, затерявшемуся в зарешеченных дебрях нестерпимого солнечного света. От этой картины заломило сердце.
Постепенно приметы будущего стали одолевать Королева.
По утрам с охраняемой стоянки за новым домом, выстроенным напротив, выезжали машины, чья стоимость раза в три превышала цену его квартиры. У шлагбаума топтались и зыркали телохранители. Королев знал, что если пройти мимо, когда выходит из машины “хозяин”, можно услышать в свой адрес: “У вас шнурок развязался!” Так сметливые телохраны отвлекали внимание от физиономии, которая могла бы запомниться по телевизионным выпускам новостей. Королев дважды попадался на это и впредь избегал шастать мимо.
Поздним вечером стояночная охрана выпускала собак, ночью чутко заливавшихся на чужака, который, случалось, забредал в переулок по разной нужде: срезать к метро, отлить, заплутать. Звонкие собачки — три дворняжных рыжих выблядка (чей папаша, колли Принц из соседнего подъезда, год назад сдох от рака) — будили его по ночам. Жестоко неприятельствуя с пришлыми тварями, загрызая приблудных щенков, эти узкомордые собаки зорко распознавали жителей трех близлежащих домов как своих.
Но когда Королев выскочил с пыльным, отяжелевшим от хлама мешком на вытянутой руке, они гурьбой покатились на него из-под шлагбаума стоянки, проскальзывая по слякоти, царапая асфальт когтями. Королев подал голос:
— Это еще что такое…
Неудобный пыльный мешок, которым ни в коем случае нельзя было касаться одежды, отягощал вытянутую руку, торопил его к помойке. Лай стал перемежаться захлебывающимся рычанием, выдались клыки. Королев съежился и, мотнув мешком, ускорил шаг, предвкушая острую боль в лодыжке. Помойка была за домом. Собаки неистовствовали. Королев оказался не готов бросить мешок и развернуться к бою.
Крысы закишели в контейнере черными зигзагами, длинно сиганули одна за другой — и скрылись в дыре под сугробом, привалившимся к трансформаторной будке. Псы отвлеклись на крыс, стали рыть снег, и он успел ретироваться.
Дрожь растворялась в теле, шаг летел. То, что собаки его не узнали, набросились, то, что они приняли его с мешком в руке за бомжа — и он испугался, не разогнал шавок ногами по мордам, а позволил им вогнать себя в шкуру бродяги, плетущегося от помойки к помойке, и позорно дал крюк через соседний двор, — это его поразило, пронзило унижением. И когда он вернулся с пустыми руками к подъезду, то не сразу вошел, а, сжав кулаки, прошелся в сторону стоянки, к шлагбауму. Но псы, снова выбежав на него, теперь тут же потеряли интерес, замотали вяло хвостами и подались восвояси.
Надя и Вадя отыскали дом Королева так. Вечером 25 января — в самый мороз — в день шестидесятилетия Высоцкого они пришли на Малую Грузинскую, 28. Дом этот был местом паломничества. Под барельефом, с которого рвались покрытые патиной бешеные кони, стояли люди. Кони были похожи на шахматные, грубой резки. Они вздымали волны, порывали с упряжью, спутанной с лопнувшими гитарными струнами. Бородатый мужик в лыжной шапочке, долбя кулаком воздух, выкрикивал стихи.
Напротив через улицу высился костел, восстановленный из бывшего склада. И вот эта близость величественного костела к дому с мемориальной доской, близость краснокирпичного, устремленного вверх здания, внутри которого ходили пасторы в белых мантиях, а с Рождества у ограды стояли ясли, с кукольным скотом и волхвами, уютно подсвеченные изнутри в промозглой московской тьме, — все это вызвало в Ваде неясный восторг — источник смешанного чувства безнадежного мужества и жалости к себе.
Постояв поодаль ото всех и дерябнув за упокой и здравие, Вадя повел Надю по дворам, осматривая подъезды. Самым подходящим оказался подъезд Королева.
Засыпая, Надя думала, что сегодня они были в церкви, и шептала: “Спасибо, мама. Очень вкусно. Очень вкусно. Очень вкусно…”
Первая ночевка Короля состоялась в парадном дома тридцать шесть дробь шесть — по Пресне. На углу его висела табличка: здесь до 1915 года жил Маяковский, здесь он написал “Облако в штанах”. Это была тренировочная ночевка: он взял с собой пенку и верблюжье одеяло. Припас сыру и мадеры. Сквозь сон его окатывали волны холода — столб ледяного воздуха вместе с пробуждением наливался в парадное и стоял, словно чугунный часовой. Мороз затаенно дышал внизу беспощадным зверем. Колотун настиг его к утру, и он с мутной головой проскакал переулками к себе, залез в горячую ванну, где часа полтора и отоспался перед работой.
…В день, на который Королев наметил окончательное отбытие, ранним утром после пробежки он зашел в магазин купить что-нибудь к завтраку.
Перед ним у кассы стояла немолодая ухоженная женщина. Она мешкала с покупками, что-то странно приговаривая.
Росту она была высокого, одета в хорошее статное пальто. Над короткой стрижкой реяла красная шляпа с широкими полями. В неэкономных движениях дремала неуверенная грация. Говоря сама с собой, она хрипло размышляла над покупками, стоящими на прилавке: над стопкой консервных банок с кильками в томатном соусе и бутылкой дешевой водки.
— Ну и зачем ему по такой цене бегать два раза?..
Она отошла и сняла с полки еще одну бутылку.
— А теперь внимание, — подняла она палец, обращаясь к кассирше. — Вот это мое. — При этом женщина ладонями охватила и придвинула стопку консервных банок. — А вот это — его. — Звякнув, она отодвинула бутылки. — Его, — повторила женщина.
— Соседа? — послушно спросила юная кассирша.
— Соседа, — удовлетворенно подтвердила женщина и, выпрямившись, добавила рукой: — Его отрава.
Тут Королев заметил, что у нее на плече прилипла паутина, рукав перечеркнут пыльным следом, а сама она, вытягиваясь, покачивалась, будто гимнаст, в стойке соскочивший со снаряда.
Расплачиваясь, он тревожно думал об этом таинственном соседе и, выйдя уже из магазина, понял: “Этим соседом скоро буду я, все шансы”.
Вечером на Курском вокзале Королев зайцем сел в поезд Москва —Симферополь. Сняли его в Орле, дав поспать на третьей полке до рассвета. Через три дня выпустили из КПЗ. Стоя у парапета набережной над Орликом, он зашвырнул ключи от квартиры в круговерть реки.
В Орле гулять было чище, но холоднее, чем в Москве: отапливаемых убежищ почти не было. С автовокзала его прогнали местные бродяги, не желавшие делиться доверием ментов, дозволявших им чистенько сидеть в зале ожидания — с часа ночи до пяти утра.
Королев послонялся по разваленному центру, по хмурым окраинам, где был дран собаками; посетовал, что не весна, — и вернулся в Москву, где хотя бы нарядные светлые витрины согревали своей приятностью. Ночевать стал на улице Герцена в подъезде дома напротив Театра Маяковского. Выбрал это парадное по старой памяти. На первом курсе первый и последний раз в жизни он участвовал в “театральном ломе” — осаде театральных касс. Группа студентов, переночевав в подъезде у театра, на рассвете блокировала подступы к кассам. Группа из другого вуза, с которой было договорено противоборство, приезжала на первом составе метро. Борьба состояла из массовых толканий и втискиванья с разгону, взброса. Не каждый житель подъезда был способен ранним утром переступить несколько десятков тел, разложенных на его пути к лифту.
Королеву ночевать на Герцена было менее неловко, чем где-либо. Там он себя успокаивал подспудной выдумкой, что “театральный лом” продолжается, что вот та сложно постигаемая научная мысль, от которой он не успел тогда за день остыть — мысль о Втором законе термодинамики, о цикле Карно, — продолжает крутиться в его мозгу сквозь зубодробильный колотун, охвативший от холода и нервной дрожи; он закуривал негнущимися, прыгающими пальцами и даже находил в этом ностальгическое удовольствие, в моторной памяти этих движений, совмещенных с навязчивой трудной мыслью об энтропии. Однако в подъезде скоро стали делать ремонт, начавшийся с установки домофона, и через неделю ему пришлось перебраться на Курский вокзал.
Там он подружился с Бидой. Это был толстый курчавый парень, жадно говоривший, жадно куривший, жадно жевавший, все что-то беспорядочно рассуждавший о себе. Кликухой его оделили вокзальные кореша, с которыми он имел какие-то суетливые не то трения, не то сделки. Биду звали Павлом, обретался он на вокзале по жуткой причине. Он был болен игроманией и, служа в каком-то офисе, после работы допоздна торчал в залах игровых автоматов, где просаживал то, что зарабатывал. Ему казалось, что вот-вот и он откроет секрет — как обыграть “однорукого Джо”. Наконец он устроился кассиром в игровой зал. И вскоре проиграл всю дневную выручку. С тех пор был в бегах. Хозяин заведения приходил к его матери, требовал расквитаться, вынуждал продать квартиру. Дома Паша жить не мог: во дворе дежурили кореша хозяина. Мать сама приходила к нему на вокзал, приносила еду, плакала и ругала. Королеву с этим несчастным болтуном было уютней, чем одному. Он вообще стал тянуться к людям, не упуская возможности пообщаться, удовлетворить любопытство: так наверстывал свое прошлое одиночество.