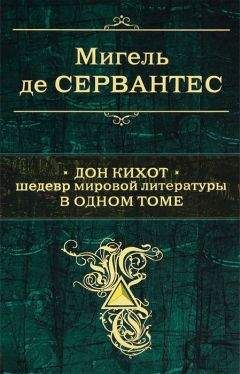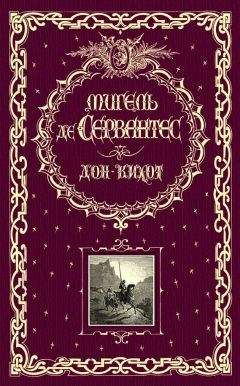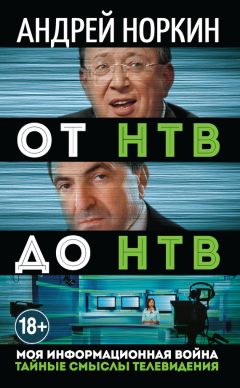Только вот теперь он – Вадим Столбов уж не увидит этих внуков.
Такова печальная селяви.
Лифт не работал.
Поднялся пешком на третий этаж и на всякий случай позвонил в обе квартиры.
У Лёли за стальной, обитой деревяшками дверью – тишина.
За такой же дверью "родительской", как Лёля называла соседнюю квартиру, послышались шаги, и голос Ани, – Вадим, это ты? Чего, ключи что-ли потерял?
– Да не потерял, – громко снимая ботинки, прокряхтел Столбов, – Лёля не знаешь где?
– Работы у нее теперь много, допоздна у Богуша твоего в тресте просиживает.
Второй комплект ключей от дочкиных апартаментов лежал в шкафу на кухне, на той полке, где стояли баночки с любимыми зеленым чаем и кофе. Аня пила чай с лепестками лотоса и с жасмином, а Вадим Игнатьевич больше ударял по кофе с цикорием.
Второй комплект ключей лежал позади баночек. Но ходить в дочкины апартаменты без спросу было не в правилах Вадима. Это только Аня могла себе позволить – потому как у нее и формальный повод был, де она уборку у дочки делает иногда, да еду ей в холодильник подбрасывает.
В общем, в Интернет сегодня залезть не получалось.
Вадим покряхтел, переоделся в домашнее – в мягкие с начесом треники и просторную теплую фланелевую рубаху.
– Есть будешь? – поинтересовалась из кухни верная Анечка.
– Попозже, – отозвался Вадим.
Он прошел к себе в кабинет, где до переезда в соседнюю квартиру была Лёлечкина девичья комната, взял перьевую ручку "паркер", что на сорок пять лет подарил ему Мишка Летягин, подарил со словами, – де, на пенсии будешь мемуары писать… Ха-ха…
Доживет ли Столбов не то что до пенсии – до следующего Первомая доживет ли теперь?
Взял паркер, взял лист бумаги и написал:
"Лёлька, бесстыдница, придешь домой, стукни в стенку отцу – дело есть…" Сложил бумажку вчетверо, на цыпочках вышел на лестничную площадку, чтобы Аня не услыхала, всунул сложенный лист в щелку между деревянными панелями обивки и тихонько затворив дверь, так же на цыпочках вернулся к себе в кабинет.
Что Лёля?
Взрослая девушка.
Женщина уже.
Столбов вспомнил, как однажды, когда ей было четырнадцать, Леля вернулась из летнего спортивного лагеря домой и он – папа не узнал ее.
Провожал в июне угловатую плоскогрудую худенькую девочку, а получил назад – долговязую загорелую девушку со всеми признаками женственности – с грудью и с характерным очертанием перехода бедро-талия-талия-бедро…
Взрослая девушка.
С высшим образованием.
Слеза вдруг подло накатилась, и ком к горлу подступил.
Вот, блин!
Как все быстро прошло.
И жизнь теперь без него дальше покатится.
Аня поплачет-поплачет…
Поносит черную газовую косынку, как пол-года носила, когда тесть помер. Поставит Вадимов фото-портрет с черной ленточкой в сервант на видное место…
А потом…
А потом через годик начнет себе потихоньку подыскивать какого-нибудь пенсионера.
Из военных, как тесть его был – подполковника шпалоракетных войск.
А Лёлька…
А Лёлька поплачет.
Вспомнит, как с папкой ездили везде – и в Сочи, и в Болгарию…
Мало он все же с нею был.
Мало.
И что это за идиотская грузинская присказка, де мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына?
Какой кретин в грузинской кепке это придумал?
По проектам Вадима сто домов построено.
И деревьев на даче – он целый сад высадил. Одних только яблонь десять штук. А сливы, а вишни, а декоративные туи?
А сына вот не родил.
И не вырастил соответственно.
Что же?
Жизнь не удалась?
Лёля…
Как у нее сложится?
Богуш на какую-то хреновину намекал в прошлый раз, де – приглядывай, папаша за красивой дочкой, увезут!
Что он имел ввиду?
Нет.
Однозначно он должен до того как умрет – он должен сделать дочери состояние.
Не квартиру, не машину – это все ерунда – замшелый комплект из набора советской мечты…
Дача тоже Аньке останется.
А вот Лёлечке – ей он должен оставить миллионы…
Должен. …
К Летягину, как всегда без стука, вошел Добкин.
– Что сидим, главный редактор? – бесцеремонно хватая со стола летягинские сладкие сухарики, спросил Добкин, осклабился небритой мордой и плюхнулся в кресло.
Добкин хрустел сухариками и выжидал, покуда до Летягина дойдет, что к нему в кабинет прилетел гений.
– Я тебе материал страшный написал, – вымолвил Добкин, проглатывая очередной сухарик, – про твоих однокашников, про Богуша с Антоновым.
– Про что материал? – придвигаясь к столу, спросил Летягин, – в чем суть?
Опять все наврал?
– Не, не наврал, – ничуть не обидевшись ответил Добкин, – у меня в городском правительстве информаторы есть, ты же знаешь.
– Знаю, – с тяжелым вздохом подтвердил свое знание Летягин. Ему было тошно от того, что Добкин втягивает его в новую авантюру, которые, может отзовутся еще худшими последствиями, чем та статья Умной Маши Бордовских о рабочих таджиках.
– А знаешь, в Питере сейчас очень популярен ансамбль, который называется Таджикская Девочка, – сказал Летягин.
– Это все фигня, – махнул рукой Добкин, протягиваясь за очередным сухариком, – тут я в ментовской в РУВД в Сиреневой Тишани у знакомого майора был, коньяк с ним пил, он мне рассказал, что к ним в уголовный розыск баба одна пришла с заявой, де у нее муж пропал. Ну, эка невидаль, муж пропал, но ты же знаешь, после того убийства, по которому московские прокуроры приезжали, Кучаев ментам велел все заявления принимать и строго-настрого покуда московская проверка не уедет все заявления граждан рассматривать… Ну, начальник уголовного розыска у этой бабы заявление по всей форме принял, и спрашивает ее, дескать, а какие особые приметы у вашего мужа, есть такие? Имеются? А она засмущалась сперва легонечко, да и говорит, имеются особые приметы, член у моего мужа тридцать пять сантиметров в лежачем и сорок восемь сантиметров в стоячем, а стоит не ложась, два часа к ряду каждый день… Майор крякнул, тоже засмущался… А тут, я забыл сказать, при разговоре при этом две бабенки ментовские присутствовали – следачки из уголовного розыска, одна лейтенант, а другая практикантка с четвертого курса юрфака из Екатеринбурга. Девки как про такое услыхали, хвать из рук майора эту заяву и айда дело регистрировать, да на себя в розыск его записывать.
– И что, нашли? – поинтересовался Летягин.
– Говорят, нашли, но не сразу жене отдали, – ответил Добкин, – говорят, допрашивали мужика трое суток, вешали на него убийства какие-то, грабежи, кражи квартирные.
– Ну и что? Сознался? – спросил Летягин.
– Отпустили они его, – сказал Добкин, – но обещали что возьмут его теперь под особый надзор, как подозрительного.
– Ну, и какая мораль? – спросил Летягин.
– А мораль такая, – осклабясь небритой харей, ответил Добкин, – ищут только очень нужных людей, а ненужные они на хрен никому не нужны…
Когда Добкин ушел, Летягин достал из стола томик очерков Панаева и с тихой улыбкой принялся восхищаться устройством старых провинциальных вечеров, когда не было телевидения и когда интеллигентные люди собирались для того, чтобы пообщаться.
Вот собирались приятные воспитанные люди у кого-нибудь на квартире, музицировали, а потом устраивали разные игры. Не карточные, не в лото, а в разные рассказы, в выдумки, в откровения… Кстати, вспомнилось Летягину, что у Лескова в Зачарованном страннике, там ведь тоже господа-попутчики рассказывали по очереди всякие истории вроде игры…
Ну…В одном очерке описано, как в одном благородном доме господа и дамы принялись играть в откровение-за-откровение… Рассказывали друг за дружкой сперва про самый счастливый в своей жизни день, а потом про самый несчастный. И так каждый из десяти собравшихся. Сколько серий сериала! Это получше любого десятипрограммного кабельного телевизора будет.
А я бы что рассказал? – подумал Летягин.
И вспомнил вдруг свою бабушку – Софью Васильевну, как она всегда приговаривала, – какие детки все хорошенькие, когда маленькие!
Вот права была бабушка.
Ведь и этот Добкин, когда маленький был – тоже, наверное, хорошеньким был.
Вот кабы теперь устраивали бы такие вечеринки с играми, – подумал Летягин, – предложил бы я Богушу, да Антонову рассказать, какой день в их жизни был самым радостным? А какой самым стыдным?
Сам-то ответил бы на эти вопросы.
Рассказал бы, что самый радостный и самый счастливый день в его жизни, был день, когда его приняли в институт.
А про самый стыдный – пока, наверное не стал бы рассказывать никому. Рано еще.
Время не пришло. …
У Минаева с детства был принцип, который помогал ему жить:
Стыдно, у кого видно…
Минаев не рассказывал никому про то, что сидел.
И откуда об этом узнала Грэйс?
А когда ему стало ясно, что она знает, ему стало так стыдно, как если бы в детстве ему перед всем классом пришлось бы снять с себя трусы.