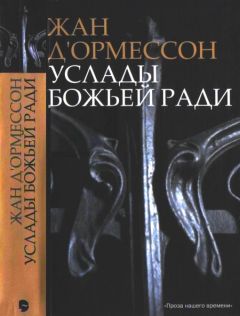В самом начале мы не боялись приключений. Слава семьи не упала нам, если можно так выразиться, в рот с неба. Слава семьи воспитала нас и сделала такими, какими мы стали, но это произошло тогда, когда мы уже ничего для этого не делали. А до того мы сами создавали славу нашей семьи. И прошли для этого через невероятные приключения. Они сделали нас богатыми, могучими, знаменитыми. И тут приключения перестали нас интересовать. А с конца XVIII века мы стали бояться их, как чуму. Когда дедушка говорил о приключениях, то всегда было видно, что он имеет в виду нечто зловещее. Приключение для него всегда было авантюрой. Что касается семьи, замка, сада, леса и даже охоты, где ни куропатка, ни олень не представляли никакой опасности, то все это было полной противоположностью и приключений, и авантюр. А вот когда мир пришел в движение, у нас вдруг снова появилась тяга к приключениям. Во второй четверти двадцатого века, так же как во времена исламского нашествия или велосипедных гонок, Плесси-ле-Водрёй опять стал слишком тесным для наших гигантских аппетитов. Не было уже больше ни крестовых походов, ни необходимости открывать новые земли, не было ни корсаров на морях, ни варваров, ни турок, чтобы давать оным отпор. Но оставались путешествия. И мы путешествовали. Далеко в прошлое ушли лошади, экипажи, шапокляки, лакеи, парики и сюртуки — весь фантастический набор общественных условностей, составлявших наше величие. А вокруг путешествий, пока под палящим солнцем мы становились похожими на всех остальных людей, крутились большие деньги и женщины, составлялись состояния, делалась политика — вся эта разменная монета помыслов божьих и нашего прошлого величия.
Разумеется, отнюдь не следует полагать, будто причуды воображения таились до поры до времени в зарослях демократии и подкрались к нам лишь в начале XX века. Отдали и мы тоже свою дань интригам и запретной любви, случались и в нашем роду безумные выходки и отлучения от церкви, а порой и преступления. Скажем, если прославившийся своими садистскими наклонностями Жиль де Ре был очень дальним двоюродным нашим прадедом, то Сад и Шуазёль Праслен приходились нам совсем близкими кузенами. Мои бабушка и прабабушка не любили вспоминать о герцоге де Праслене, убившем свою жену, и о маркизе де Саде, отличавшемся весьма причудливым воображением. Но когда уже оказывались вынужденными о них говорить, то называли их не иначе как «дядя Шарль» или «дядя Донасьен». Так что половые извращения и кровавые преступления, которыми запестрели позже первые полосы газет, были известны и нашей семье тоже. Разница между порядком в прошлом и беспорядком в нынешнем заключалась скорее в окружавшем нас обществе, чем в наших страстях и инстинктах, которые не очень-то и изменились. В прошлом мы были и дикими, и жестокими, но за нами была сила, и все улаживалось само собой. О том, что происходило, люди знали меньше, да и мы контролировали информацию лучше, чем сейчас. Даже когда нас подозревали, заставали на месте преступления, арестовывали, осуждали и казнили, после нас оставались воспоминания с запахом серы и дыма, которые не были лишены своеобразного величия. Дети до сих пор читают сказку о Синей Бороде, а дядя Шарль все же способствовал, сам того, правда, не желая, но весьма действенно, падению Луи-Филиппа и его орлеанистской братии узурпаторов. А интеллигенты, даже левые, то есть прежде всего именно левые, продолжают хранить дяде Донасьену верность, питать к нему любовь, своего рода страсть, нам, разумеется, совершенно непонятную, но все же, несмотря ни на что, весьма трогательную и лестную. Вот уже пятьдесят или шестьдесят лет волны судьбы кидают нас из стороны в сторону, и все оборачивается против нас. Дело в том, что в пору нашего всесилия мы располагали большими привилегиями: мы владели замками, где можно было принимать мальчиков и девочек, молодых, красивых гувернанток, маркиз и президентш. У нас были земли, лошади, деньги, много денег. Были у нас и лакеи, и горничные, чтобы обслуживать наших гостей и доставлять нам разного рода удовольствия. Были у нас даже головорезы, чтобы в случае чего замять дело. И не было никаких журналистов. Ходили слухи, что моя прабабушка была неравнодушна к очаровательному герцогу д’Омалю и что в подвале Плесси-ле-Водрёя еще и сейчас существует дверь, не раз открывавшаяся теплыми летними ночами, чтобы пропустить герцога. Некоторые даже поговаривают, что замалчиваемое документами той эпохи исчезновение герцога д’Омаля на две-три недели объясняется тем, что он приходил в себя после ранения, нанесенного ему моим прадедушкой, который, будучи тайно уведомленным о романе, подстерег его на узенькой дорожке. Однако в отсутствие фотографов и репортеров распространяться этим слухам было трудно. На протяжении сотен лет существовало лишь два источника информации, используемых и по сей день историками и архивистами: судебные процессы, возбуждаемые против нас королем или Церковью, и то, что мы сами оставляли после себя по неосторожности или из тщеславия в виде писем, мемуаров, исповедей или романов.
Сегодня же, напротив, возникает ощущение, что целая армия добровольных информаторов только и делает, что ловит каждый наш жест и каждый шаг. От Вены до Нью-Йорка, от Лондона до Корфу циркулируют слухи, бесконечно повторяемые старухами за чашкой чая, молодежью на каникулах, агентствами печати и страдающими от графоманского зуда журналистами. Именно теперь, когда мы уже не играем никакой роли, по всему миру разносятся новости о малейших из наших утех. Они заполняют целые страницы иллюстрированных журналов, служат темой послеобеденных бесед, причем не только в закрытых клубах Лондона и Парижа, в «Уайтсе» и «Жокей клубе», но и в кругах обывателей, жадных до газетных новостей и слышавших краем уха нашу фамилию. В будущем историки, если вдруг захотят узнать о перипетиях судьбы нашего семейства в первой половине двадцатого века, получат в свои руки обширнейший материал. Хотя мы ничего существенного не делали, говорили о нас повсюду: в романе «В поисках утраченного времени», в колонках «Фигаро», сменившего «Голуа», в переписке Кокто и Маритена, в «Шабаше» и в «Псовой охоте» Мориса Сакса, в письмах, которыми обменивались разъезжавшиеся летом на отдых пожилые люди, по разным причинам все еще отказывавшиеся тогда пользоваться телефоном. Так, дедушка не раз получал из самых неожиданных источников вести о своем внуке Филиппе и о хорошенькой коллекции его дамочек: на протяжении всего двух-трех дней в Плесси-ле-Водрёй могли поступить сообщения, что его видели почти одновременно ужинающим в Лондоне и в Нью-Йорке, что он был проездом в Венеции с юной актрисой и участвовал в круизе по греческим островам в компании дочери нефтяного магната. Но особенно захватывающей была история с Пьером, старшим сыном тети Габриэль. В течение пяти-шести лет между двумя мировыми войнами мы и еще несколько сот человек, разбросанных по всему миру, а точнее между Лондоном и Веной, затаив дыхание следили за событиями, в которых отразилась блестящая и вместе с тем ироничная история заката нашей семьи.
Сейчас я уже не в состоянии вспомнить, где мой кузен Пьер впервые встретил Урсулу. У кого теперь можно спросить? Для старика преклонный возраст выражается не только в физическом ослаблении всего организма, но и в перебоях памяти, которая, по мере того как умирают родственники, остается единственным хранилищем воспоминаний, которые, увы, с каждым днем исчезают одно за другим в Лете. Не только будущему каждого из нас грозит костлявая с косой в руках. Прошлое она тоже уничтожает без сожаления. Умирая, каждый старик уносит с собой навсегда немного прошлого, немного истории. Секреты дедушки и бабушки, дядей и кузенов, понемногу забываемые мной, после меня уже никто не будет знать. Любознательные люди, архивисты и историки найдут, конечно, акт о браке, заключенном между Пьером и Урсулой фон Витгенштейн-цу-Витгенштейн, проследуют за ними в их свадебное путешествие в Рим, Флоренцию, Равенну и Венецию, найдут отклики на празднества в их честь, наделавшие много шума в привилегированных слоях Европы. Но что касается наших разговоров внутри семьи о первой встрече Пьера и Урсулы, когда они впервые увидели друг друга и обменялись первыми фразами, то кто вспомнит о них, если я и сам уже забываю их? Эти взгляды, эти жесты, эти случайные слова исчезли в той странной пропасти, о которой я думаю всю мою долгую жизнь, готовую, в свою очередь, скатиться туда же, в небытие того, что было и никогда больше не будет, о чем никто, нигде уже больше не помнит.
Ее красивая фамилия, отзывающаяся эхом, вдохновила Жироду назвать почти так же рыцаря, влюбленного в Ундину. Урсула фон Витгенштейн-цу-Витгенштейн принадлежала к старинной немецкой семье, такой же древней, как наша, на протяжении всей истории старавшейся огнем и мечом распространять германское влияние на Востоке, чему препятствовали славяне. Два представителя этой семьи, один за другим, носили славный титул великого магистра Тевтонского ордена. Один из Витгенштейнов погиб в битве под Танненбергом в 1410 году. Другой пал в битве при Танненберге в 1914 году. Представители семейства Витгенштейнов присутствовали на протяжении веков во многих местах: от Балтийских стран на севере до Сицилии на юге, так же как мы на пространстве от Фландрии до берегов реки По. Витгенштейны были с Фридрихом II в Палермо, с императором Рудольфом в Праге, с королевой Луизой Мекленбургской в Тильзите и с Бисмарком в Версале. А когда в Рим приехал одержимый юный поэт по имени Гёте, то им удалось сделать так, что его там, в Италии, тоже встречал один из представителей этой семьи. Они оказались так или иначе замешанными и в изобретении Гуттенбергом книгопечатания, и в учреждении в XVII веке почтовой службы, а кроме того, собрали в своих замках на берегах Рейна и в Восточной Пруссии значительную часть легендарных коллекций Фуггеров и Пиркхеймера. Младший из Витгенштейнов, отец Урсулы, женился на дочери Круппа. В период, когда во Франции королевская власть пришла в упадок, прусская монархия, персонифицированная династией Гогенцоллернов, достигла апогея. После Палермо, Праги и Вены Витгенштейны использовали Берлин как новый трамплин для утоления своих ненасытных амбиций. В тот самый момент, когда мы уходили в своего рода внутреннюю эмиграцию, принесшую нам столько страданий, Витгенштейны, находившиеся в расцвете своих сил, сумели придать новый блеск армии, культуре, традициям, патриотизму. Они отступили лишь затем, чтобы накопить энергии для следующего прыжка. Падение Германской империи означало для Витгенштейнов начало конца, нечто подобное тому, что мы пережили сто лет назад.