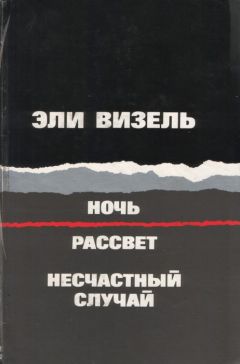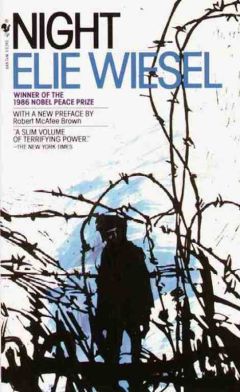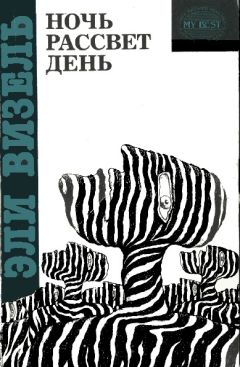— Скоро взойдет солнце? — спросил он.
— Через час, — ответил я и добавил, сам не зная зачем: — Примерно.
Мы долго смотрели друг на друга, и внезапно я понял, что обычный размеренный бег времени изменился. «Через час я убью его», — подумал я. И все же мне до сих пор в это не верилось. Час, отделяющий меня от убийства, продлится дольше, чем целая жизнь. Он всегда будет принадлежать далекому будущему и никогда не уйдет в прошлое.
Что-то извечное было в нашем положении. Мы были одни не только в камере, но и в целом мире, он сидел, я стоял, жертва и палач. Мы были первыми, а может, последними людьми во Вселенной; разумеется, мы были одни. А Господь? Каким-то образом Он тоже присутствовал. Его олицетворяла собой та симпатия, которую внушал мне Джон Доусон. Отсутствие ненависти между палачом и жертвой, наверное, это и есть Бог.
Мы были одни в тесной беленной камере, он сидел на кровати, я стоял перед ним, и мы смотрели друг на друга. Я хотел бы увидеть себя его глазами, и, наверное, ему хотелось бы знать, как он выглядит в моих глазах. Я не испытывал ни ненависти, ни гнева, ни жалости; просто он мне нравился. Мне нравилось, как он хмурится, когда размышляет, как он разглядывает свои ногти, пытаясь сформулировать свои мысли. При других обстоятельствах он мог бы стать моим другом.
— Это ты? — коротко спросил он.
Как он догадался? Должно быть ощутил или почуял. У смерти свой запах, и я принес его с собой. А может быть, едва я вошел, как он заметил, что у меня нет ни рук, ни ног, ни плеч, а одни только глаза.
— Да, — ответил я.
Я совершенно успокоился. Предпоследний шаг — самый трудный; с последним шагом приходят ясность мысли и уверенность.
— Как тебя зовут? — спросил он.
Этот вопрос насторожил меня. Разве каждый осужденный должен задать его? Почему он хочет узнать имя своего палача? Чтобы захватить его с собой на тот свет? Зачем? Наверное, не стоило говорить ему, но я ни в чем не мог отказать человеку, приговоренному к смерти.
— Элиша, — ответил я.
— Красиво звучит, — заметил он.
— Так звали пророка, — пояснил я. — Элиша был учеником Элиягу. Он оживил мальчика. Для этого он лег на него и дунул ему в рот.
— Ты поступаешь как раз наоборот, — сказал он с улыбкой.
В его голосе не было и следа гнева или ненависти. Должно быть, он тоже ощущал ясность мысли и уверенность.
— Сколько тебе лет? — спросил он с возрастающим интересом.
— Восемнадцать, — ответил я и зачем-то добавил: — Почти девятнадцать.
Он поднял голову, и на его худом, внезапно заострившемся лице проступила жалость. Несколько секунд он разглядывал меня, потом печально кивнул.
— Мне жаль тебя, — сказал он.
Я чувствовал, как его жалость заливает меня. Я понимал, что она пропитает меня насквозь, что завтра я начну жалеть сам себя.
— Расскажи-ка мне историю, — сказал я, — и посмешнее, если можешь.
Мое тело отяжелело. Я подумал, что назавтра оно отяжелеет еще больше, моя жизнь и его смерть отяготят его.
— Я последний человек, которого ты видишь перед смертью, — продолжал я, — попробуй, рассмеши его.
И снова он окинул меня взглядом, полным сожаления. Интересно, каждый ли осужденный так глядит на последнего человека в своей жизни, каждая ли жертва жалеет своего палача?
— Мне жаль тебя, — повторил Джон Доусон.
Сделав неимоверное усилие, мне удалось улыбнуться.
— Это не смешно, — заметил я.
Он улыбнулся в ответ. Чья улыбка была печальней?
— Ты уверен, что это не смешно?
Нет, я отнюдь не был уверен. Возможно, что-то забавное здесь и было. Сидящая жертва, стоящий палач — оба улыбаются и понимают друг друга лучше, чем друзья детства. В такие условия нас поставило время. Налет условностей был стерт, каждое слово, взгляд или жест обнажали всю правду, а не какую-то ее грань. Между нами наступила гармония; наши улыбки переплетались, его жалость была моей. Ни один человек никогда не будет так понимать меня, как понимал он в этот час. И все же я знал, что дело только в тех ролях, которые были на нас возложены. Они-то и придавали всей истории забавный оттенок.
— Садись, — сказал Джон Доусон, освобождая мне место на койке слева от себя.
Я уселся. Только теперь я понял, что он на целую голову выше меня. И ноги его были длиннее моих, мои ноги даже не доставали до пола.
— У меня есть сын твоих лет, — начал он, — но он совсем не похож на тебя. У него светлые волосы, он силен и здоров. Он любит поесть, выпить, ходить в кино, смеяться, петь и гулять с девушками. Ему совершенно не свойственны твоя тревога, твоя печаль.
И он принялся рассказывать мне про этого сына, который «учится в Кембридже». Каждое его слово обжигало мне тело, словно язык пламени. Правой рукой я дотронулся до пистолета, лежавшего в моем кармане. Пистолет тоже был раскален и жег мне пальцы.
«Я не должен слушать его», — подумал я. Он мой враг, а у врага нет истории. Я должен подумать о чем-нибудь другом. Поэтому мне хотелось увидеть его — чтобы подумать о чем-нибудь другом, пока он разговаривает. О чем-нибудь другом… но о чем? Об Илане? О Гаде? Да, я буду думать о Гаде, а он думает о Давиде. Я буду думать о нашем герое, Давиде бен Моше, который…
Я прикрыл глаза, чтобы получше представить себе Давида, но безуспешно, поскольку я никогда не видел его. «Имени еще недостаточно», — подумал я. Человек должен иметь лицо, голос, тело, а уж к ним я прилажу имя Давида бен Моше. Лучше подумать о лице, голосе, теле, которые я действительно знаю. Гад? Нет, трудно вообразить себе Гада, приговоренным к смерти. Приговоренный к смерти… в этом все дело. Как мне это раньше не пришло в голову? Джон Доусон приговорен к смерти; почему бы мне не наречь его Давидом бен Моше? На ближайшие пять минут ты Давид бен Моше… в тусклом, холодном, белом свете камеры смертников в тюрьме Акры. Стук в дверь, входит рабби, чтобы прочитать с тобой псалмы и услышать твой видуй[7], это ужасное признание, с ним ты принимаешь на себя ответственность не только за те грехи, что совершил ты сам — словом, делом или мыслью, но и те, в которые ты мог ввергнуть других людей. Рабби дает тебе традиционное благословение: «Господь благословит и сохранит тебя…» и призывает тебя не страшиться. Ты отвечаешь, что не боишься и что, будь твоя воля, ты бы сделал то же самое снова. Рабби улыбается и говорит, что за стенами тюрьмы все гордятся тобой. Он настолько растроган, что изо всех сил пытается сдержать слезы; наконец, ему становится невмоготу, и он рыдает. Но ты, Давид, не плачешь. Ты с нежностью смотришь на рабби, потому что он — последний человек, которого ты видишь перед смертью (палач и его подручные не в счет). Он рыдает, и ты пытаешься утешить его. «Не плачьте, — говоришь ты. — Я не боюсь. Не нужно жалеть меня».
— Мне жаль тебя, — сказал Джон Доусон. — Я беспокоюсь о тебе, а не о моем сыне.
Он спустил ноги на пол. Он был так высок, что когда встал, ему пришлось пригнуться, чтобы не стукнуться головой о потолок. Заложив руки в карманы своих измятых брюк цвета хаки, он начал прохаживаться взад и вперед по камере: пять шагов туда, пять шагов обратно.
— Это, пожалуй, забавно, — заметил я.
Казалось, он не слышал. Он продолжал ходить от стены до стены. Я взглянул на часы; было двадцать минут пятого. Внезапно он остановился предо мной и попросил сигарету. У меня в кармане была пачка «Плэйрс», и я хотел отдать ее ему. Однако он отказался взять всю пачку, сказав совершенно спокойно, что наверняка не успеет ее выкурить.
Неожиданно он заторопился и спросил:
— У тебя есть карандаш и бумага?
Я вырвал несколько листков из моей записной книжки и протянул ему вместе с карандашом.
— Хочу послать сыну коротенькую записку, — пояснил он, — я припишу адрес.
Я отдал ему и записную книжку, чтобы он использовал ее как подставку. Он положил книжку на кровать и склонился над ней, собираясь писать стоя. Несколько минут тишину нарушал только шорох карандаша, бегающего по бумаге.
Я восхищенно смотрел на его холеные руки с длинными, тонкими аристократическими пальцами. «С такими руками легко жить на свете, — подумал я. — Не нужно кланяться, улыбаться, разговаривать, расточать комплименты, преподносить цветы. Такие руки — только и всего. Их бы охотно изваял Роден…».
Мысль о Родене напомнила мне про Стефана, немца, которого я знал в Бухенвальде. До войны он был скульптором, но к тому времени, когда я с ним познакомился, нацисты отрезали ему правую руку.
В первые годы после прихода Гитлера к власти Стефан и несколько его товарищей организовали в Берлине небольшую группу сопротивления. Вскоре гестапо раскрыло ее. Стефана арестовали, допросили и подвергли пыткам. «Назови нам имена, — говорили ему, — и мы отпустим тебя». Его избивали и морили голодом, но он молчал. День за днем и ночь за ночью ему не давали спать, но он не поддавался. Наконец его приволокли к начальнику берлинского гестапо — тихому, застенчивому человеку, который мягким отеческим голосом посоветовал Стефану оставить свое глупое упрямство. Скульптор молчал, как камень. «Послушай, — сказал начальник, — назови нам хотя бы одно имя, в знак доброй воли». Стефан по-прежнему не отвечал. «Жаль, — сказал начальник, — ты вынуждаешь меня сделать тебе больно».