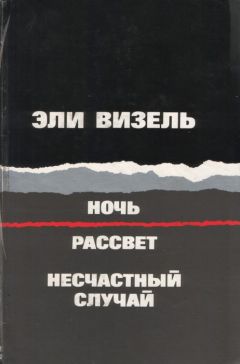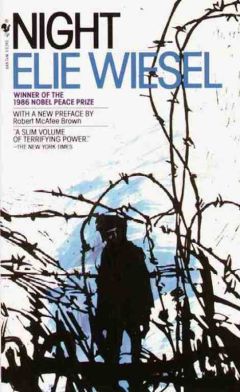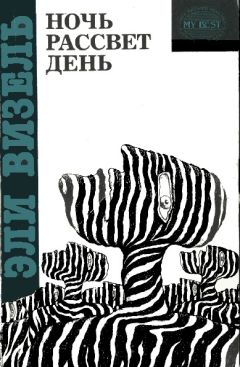Зачем? Я удивился. Что за вопрос? Без ненависти все, что делают мои друзья и делаю я — напрасно. Без ненависти у нас нет надежды одержать победу. Почему я пытаюсь возненавидеть тебя, Джон Доусон? Потому что мой народ никогда не умел ненавидеть. На протяжении столетий его трагедия заключалась в том, что он не мог возненавидеть тех, кто издевался над ним, а временами и истреблял его. Теперь наша единственная надежда — возненавидеть тебя. Мы должны понять, что ненавидеть — необходимо, и мы должны усвоить искусство ненависти. Иначе, Джон Доусон, наше будущее будет всего лишь продолжением прошлого, и Мессия никогда не дождется избавления.
— Зачем тебе пытаться ненавидеть меня? — снова спросил Джон Доусон.
— Чтобы придать моему поступку высший смысл.
И опять он медленно покачал головой.
— Мне жаль тебя, — повторил он.
Я взглянул на часы. Без десяти пять. Еще десять минут. Через десять минут я совершу самый важный и убедительный поступок в моей жизни. Я встал с койки.
— Готовься, Джон Доусон, — сказал я.
— Час настал? — спросил он.
— Уже скоро, — ответил я.
Он поднялся и прислонился к стене, видимо, для того, чтобы собраться с мыслями или помолиться, или еще чего-нибудь в этом роде.
Без восьми минут пять. Еще восемь минут. Я вытащил пистолет из кармана. А что, если Джон Доусон попытается отобрать его у меня? Ему все равно не убежать. Дом хорошо охраняется, а из подвала можно выйти только через кухню. Там наверху караулят Гад, Гидеон, Иоав и Илана, и Джон Доусон знает об этом.
Без шести минут пять. Еще шесть минут. Внезапно я почувствовал полную ясность мыслей. Неожиданно камера озарилась светом преграды рухнули, роли были окончательно распределены. Время сомнений, вопросов и неуверенности в себе миновало. Я стал рукой, сжимающей пистолет. Я был пистолетом, который сжимала моя рука.
Без пяти пять. Еще пять минут.
— Не страшись, сын мой, — говорит рабби Давиду бен Моше, — Господь с тобой.
— Не волнуйся, я же хирург, — говорит застенчивый начальник гестапо Стефану.
— Письмо, — говорит Джон Доусон, озираясь. — Ты ведь отошлешь его моему мальчику?
Он стоял у стены; он стал стеной.
Без трех минут пять. Еще три минуты.
— Господь с тобой, — говорит рабби. Он плачет, но Давид уже его не видит.
— Письмо, не забудь, ладно? — настаивает Джон Доусон.
— Я отошлю его, — обещаю я и зачем-то добавляю: — Отправлю сегодня же.
— Спасибо, — говорит Джон Доусон.
Давид входит в камеру, из которой ему уже не выйти живым. Палач ждет его. Он — сплошные глаза. Давид поднимается на эшафот. Палач спрашивает его, завязать ли ему глаза. Давид категорически отказывается. Еврейский боец умирает с открытыми глазами. Он хочет взглянуть смерти в лицо.
Без двух минут пять. Я вынимаю из кармана платок, но Джон Доусон приказывает мне убрать его. Англичанин умирает с открытыми глазами. Он хочет взглянуть смерти в лицо.
Без одной минуты пять. Еще шестьдесят секунд.
Дверь камеры бесшумно отворилась и мертвые вошли, наполняя нас своим молчанием. В тесной камере стало невыносимо душно.
Нищий тронул меня за плечо и сказал:
— Близится день.
А мальчик, который походил на меня, такого, каким я был когда-то, сказал смущенно:
— Я в первый раз… — Его голос прервался, а потом, словно вспомнив, что фраза осталась незаконченной, он добавил:
— Я в первый раз вижу казнь.
Мои отец и мать были здесь, а также седой учитель и Иерахмиэль. Они молча следили за мной.
Давид выпрямился и запел Xатикву.
Джон Доусон улыбался, он стоял, прислонившись головой к стене, а его тело вытянулось вверх так, как будто он отдавал честь генералу.
— Почему ты улыбаешься? — спросил я.
— Никогда не спрашивай человека, который на тебя смотрит, почему он улыбается, — сказал нищий.
— Я улыбаюсь, — сказал Джон Доусон, — так как до меня вдруг дошло, что я не знаю, за что умираю. — Помолчав секунду, он добавил:
— А ты?
— Вот видишь? — сказал нищий, — я же говорил тебе, что нельзя задавать вопросы человеку, который сейчас умрет.
Двадцать секунд. Эта минута длилась не шестьдесят секунд, а дольше.
— Не улыбайся, — сказал я Джону Доусону. Я хотел сказать, что не могу стрелять в улыбающегося человека.
Десять секунд.
— Я хочу рассказать тебе историю, — сказал он, — одну забавную историю.
Я поднял правую руку.
Пять секунд.
— Элиша…
Две секунды. Он по-прежнему улыбался.
— Жаль, — сказал мальчик, — я хотел бы послушать эту историю.
Одна секунда.
— Элиша, — сказал заложник.
Я выстрелил. Произнося мое имя, он был уже мертв; пуля вошла ему в сердце. Мертвец, чьи губы были еще теплыми, произносил мое имя: Элиша.
Очень медленно он осел на пол, словно соскользнул со стены. Он сидел, склонив голову между колен, будто все еще ожидал своей смерти. Я постоял несколько секунд возле него. У меня болела голова, мое тело наливалось тяжестью. После выстрела я оглох и онемел. «Так, — подумал я, — вот и все. Я убил. Я убил Элишу».
Призраки начали покидать камеру, уводя с собой Джона Доусона. Малыш шел рядом с ним, как бы показывая ему дорогу. Мне почудилось, что я слышу голос мамы: «Бедный мальчик! Бедный мальчик!»
Тогда тяжелыми шагами я поднялся по лестнице, ведущей в кухню. Я прошел в комнату, но она не была такой, как прежде. Призраки исчезли. Иоав больше не зевал. Уставившись на свои ногти, Гидеон молился за упокой души умершего. Илана подняла на меня печальный взгляд, полный сочувствия, Гад закурил. Они молчали, но их молчание отличалось от того молчания, которое всю ночь тяготело надо мною. На горизонте вставало солнце.
Я подошел к окну. Город все еще спал. Где-то проснулся и заплакал ребенок. Мне хотелось, чтобы залаяла собака, но нигде поблизости собаки не было.
Ночь подымалась, оставляя после себя сероватые сумерки цвета стоячей воды. Вскоре от нее остались только разрозненные клочья мрака, они висели в воздухе за окном. Страх стиснул мне горло. У обрывка тьмы было лицо. Вглядевшись в него, я понял причину моего страха. Это было мое лицо.
И снова меня поразила мудрость древнего изречения: сердце человека — это ров, полный крови. Умершие, которых мы любили, припадают к краю этого рва, чтобы напиться крови и вернуться к жизни. Чем дороже они нам, тем больше нашей крови они выпивают.
Никос Казанцакис, «Грек Зорба»
Несчастный случаи произошел июльским вечером, в самом центре Нью-Йорка, когда мы с Катлин переходили улицу. Мы шли в кино, смотреть фильм «Братья Карамазовы».
Стояла тяжелая, удушающая жара, она проникала в кости, в вены, легкие. Не то, что говорить — даже дышать было трудно. Воздух обволакивал все кругом, как огромная мокрая простыня. Жара прилипала к коже, словно проклятье.
Люди двигались неуклюже. Они казались изможденными, их губы пересохли, как у старцев. Старцев, видящих как разрушается их плоть, мечтающих избавиться от самих себя, чтобы не сойти с ума. Собственное тело внушает им отвращение.
Я падал от усталости. Только что я закончил работу: телеграмму на пятьсот слов. Пятьсот слов — чтобы не сказать ничего. Это было одно из тех спокойных нудных воскресений, не оставляющих следа на поверхности времени. В Вашингтоне — ничего. В ООН — ничего. В Нью-Йорке — ничего. Даже из Голливуда ответили — ничего. Кинозвезды покинули колонки новостей.
Не так просто истратить пять сотен слов, чтобы сказать, что сказать нечего. После двух часов работы я совершенно выдохся.
— Что теперь будем делать? — спросила Катлин.
— Что хочешь, — ответил я.
Мы стояли на углу сорок пятой улицы, прямо напротив Шератон-Астор. Я оглох и отяжелел, в голове стоял плотный туман. Малейшее движение было подобно попытке сдвинуть планету. Руки и ноги налились свинцом.
Справа от меня виднелся людской водоворот на Таймс-сквер. Люди приходят туда, как на пляж: не от скуки, не от страха перед комнатой, полной осколков сновидений. Приходят, чтобы чувствовать себя не одинокими, или чтобы острее ощутить одиночество.
Мир, придавленный жарой, медленно кружился. Все казалось нереальным. Озаренные разноцветным карнавалом неоновых огней, люди сновали туда и сюда, смеялись, пели, кричали, оскорбляли друг друга. Но движения их замедлялись и замедлялись.
Из отеля вышли три матроса. Увидев Катлин, они замерли, восхищенно присвистнув в унисон.
— Пойдем, — сказала Катлин и потянула меня за руку. Она явно нервничала.
— Что ты против них имеешь? — ответил я. — Они считают, что ты красивая.
— Мне не нравится, когда так свистят.