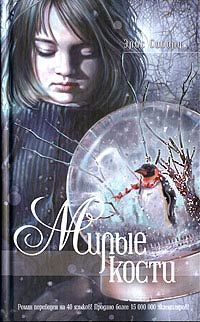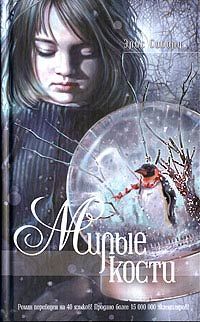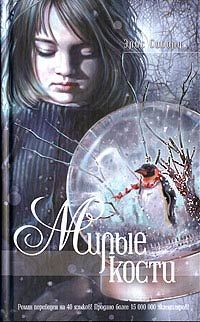— Осторожнее у коленок и на щиколотках, — сказал он. — Мама их называет опасными зонами.
— Ладно уж, оставайся, если хочешь, — смягчилась Линдси. — Только вдруг я порежусь и тебя кровью перепачкаю? — Тут ее как ударило. — Ой, пап, ты садись.
Она встала и пересела на край ванны, а папа опустился на крышку унитаза.
— Все нормально, родная моя, — сказал он. — Давно мы с тобой не беседовали о твоей сестре.
— А зачем? — спросила Линдси. — Она и так рядом, повсюду.
— Похоже, твой братишка вполне оправился.
— От тебя не отлипает.
— Верно, — кивнул мой отец и поймал себя на том, что ему это приятно.
— Ой! — вскрикнула Линдси, заметив, как сквозь белую пену просачивается красная капля. — Как назло!
— Прижми порез большим пальцем. Это остановит кровь. Выше колена не заходи, — посоветовал он. — Мама всегда этим ограничивается, если, конечно, не ехать на пляж.
Линдси выпрямилась:
— Не помню, чтобы вы ездили на пляж.
— Раньше ездили.
Мои родители познакомились в магазине «Уонамейкерс», где оба подрабатывали во время студенческих каникул. Он посетовал, что комната отдыха для персонала насквозь провоняла никотином, а она с улыбочкой вытащила свою неизменную пачку «Пелл Мелл». «Не в бровь, а в глаз», — сказал он и просидел рядом с ней весь перерыв, давясь от табачного дыма.
— Не пойму, на кого я больше похожа, — сказала Линдси, — на бабушку Линн или на маму?
— Я всегда считал, что вы с сестрой похожи на мою мать, — ответил он.
— Пап?
— Да?
— Ты все-таки считаешь, что мистер Гарви замешан в этом деле?
Два электрода наконец-то сблизились и заискрили.
— Ничуть не сомневаюсь, родная моя. Ничуть.
— Почему же Лен его не арестовал?
Линдси закончила терзать левую ногу и в ожидании ответа неловко подняла вверх бритвенный станок с клочьями пены.
— Даже не знаю, как объяснить, — начал мой отец, с трудом выдавливая слова: он никогда и ни с кем не делился такими подробностями. — Помнишь, я был у него во дворе и помогал сооружать этот шатер — он еще говорил, что, дескать, возводит его в память о жене, и я твердо помню, он называл ее Софи, а у Лена почему-то записано «Лия»; так вот, его повадки не оставили у меня ни малейших сомнений.
— Все говорят, он с прибабахами.
— Это понятно, — сказал отец. — Но с другой стороны, с ним никто напрямую не общается. Соседи не могут знать природу его странностей.
— Какую еще природу?
— Насколько он безобиден.
— Холидей его на дух не переносит, — сказала Линдси.
— Вот именно. Чтобы наш пес так захлебывался лаем… В тот раз у него даже шерсть на загривке поднялась дыбом.
— Копы считают, ты на этом зациклился.
— Копы заладили: «Улик нет». А без улик и — ты уж прости, родная моя, — без трупа у них нет ни зацепок, ни оснований для ареста.
— Какие нужны основания?
— Наверно, любые предметы, которые подтвердят его причастность к исчезновению Сюзи. Или показания людей, которые видели, как он слоняется в поле или хотя бы отирается возле школы. Что-то в этом роде.
— А вдруг у него осталось что-то из ее вещей?
Они оба разгорячились, и правая нога Линдси, уже намыленная, так и осталась небритой, потому что икры взаимопонимания полыхнули внезапным озарением: может статься, я нахожусь в том доме. Мое тело — либо в подвале, либо на первом этаже, на втором, на чердаке. Чтобы не высказывать вслух эту жуткую мысль (ах, будь это правдой — очевидной, определяющей, окончательной, — других улик никто бы не требовал), они стали перечислять, как я была одета в последний день, что у меня было при себе: любимая «стерка» с физиономией Фрито Бандито,[10] значок с Дэвидом Кэссиди,[11] пришпиленный к сумке изнутри, еще один значок, с Дэвидом Боуи, пришпиленный снаружи. Они называли всякую дребедень, которая сопровождала самую главную, неопровержимую и страшную из всех возможных улик — мой расчлененный труп с бессмысленными, гниющими глазами.
Глаза: косметика, наложенная рукой бабушки Линн, лишь отчасти избавила Линдси от повального наваждения, когда в ее глазах всем чудились мои. Если Линдси видела свои глаза со стороны — в зеркальце одноклассницы, в витрине магазина, — она спешила отвернуться. Но больше всех страдал мой отец. Во время их разговора Линдси осознала: пока обсуждается эта тема — мистер Гарви, моя одежда, сумка с учебниками, тело, мой характер, — отец сосредоточен исключительно на мне и не рассматривает ее как трагическое воплощение обеих своих дочерей.
— То есть ты хочешь проникнуть к нему в дом? — уточнила Линдси.
Они в упор смотрели друг на друга, боясь признаться в опасных замыслах. После некоторого колебания отец промямлил: мол, такие действия противозаконны, нет, он еще об этом не думал, но Линдси уже поняла, что это неправда. Поняла она и другое: ему нужен сообщник.
— Не буду тебе мешать, дочка, — сказал он.
Линдси согласно кивнула и отвернулась, по-своему истолковав последнюю фразу.
Бабушка Линн приехала в понедельник, накануне Дня благодарения. Ее взгляд, который лучом лазера выхватывал малейшие прыщики на лице внучки, теперь обнаружил что-то неладное за улыбкой дочери, за умиротворенностью плавных движений, за оживлением, которое наступало с приходом полицейских, в особенности Лена Фэнермена.
А когда моя мама отказалась от помощи отца, предложившего вместе убрать со стола после обеда, взгляд-лазер был отключен за ненадобностью. Непререкаемым тоном, к изумлению всех сидящих за столом и к облегчению моей сестры, бабушка Линн сделала заявление:
— Абигайль, помогать буду я. Управимся вдвоем, на то мы и мать с дочкой.
— Зачем?
Моя мама успела прикинуть, как отпустит Линдси, а сама проведет вечер у раковины, неторопливо перемывая тарелки и глядя в окно, пока темнота не выведет ее отражение на оконном стекле. А там, глядишь, и телевизор умолкнет, и можно будет снова остаться наедине с собой.
— Не хочу маникюр портить, — сказала бабушка Линн, подвязывая фартук поверх расклешенного книзу бежевого платья. — Ты будешь мыть, а я — вытирать.
— Мама, честное слово, это никому не нужно.
— Нет, нужно, уж ты поверь, милочка, — сказала бабушка Линн.
Что-то назидательное и ядовитое сквозило в этом слове: «милочка».
Бакли взял моего отца за руку и повел в соседнюю комнату смотреть телевизор. Они заняли свои любимые места, а Линдси, получив амнистию, побежала наверх звонить Сэмюелу.
Странно было это видеть. Непривычно. Бабушка в кухонном фартуке, с полотенцем в руках, как матадор с красной тряпкой, нацеливается на вымытые тарелки.
За мытьем посуды они не разговаривали, и эта тишина, нарушаемая только плеском горячей воды, скрипом чистой посуды и звяканьем столового серебра, постепенно заполнялась невыносимым напряжением. Из-за стенки доносились вопли футбольного комментатора, и это было не менее странно. Папа никогда не смотрел футбол, он интересовался только баскетболом. А бабушка Линн никогда не снисходила до мытья посуды: она из принципа покупала готовые «заморозки» или заказывала еду в ресторане с доставкой на дом.
— Все, баста, — не выдержала она. — Держи, — и сунула моей маме очередную чистую тарелку. — У меня к тебе серьезный разговор — боюсь, я все переколочу. Пойдем-ка прогуляемся.
— Нет, мама, сначала надо…
— Сначала надо прогуляться.
— Когда разделаюсь с посудой.
— Послушай, — сказала бабушка, — я не обманываюсь: я — это я, а ты — это ты, и мы с тобой разные, что ничуть тебя не огорчает. Но меня не проведешь. Я чую: здесь пахнет жареным. Понятно?
По маминому лицу пробежала тень, мягкая и неуловимая, как ее собственное отражение в мыльной воде.
— О чем ты?
— Есть кое-какие соображения, но я не собираюсь делиться ими здесь.
Так держать, бабушка Линн, подумала я. Мне еще не доводилось видеть ее такой взвинченной.
Трудностей с уходом из дому не предвиделось. Мой папа, с его-то больным коленом, ни за что не вызвался бы их сопровождать, тем более что Бакли непременно увязался бы следом.
Моя мать замолчала. Ей некуда было деваться. Они спустились в гараж, бросили фартуки на крышу «мустанга», а потом мама наклонилась и подняла дверь.
Время было еще не позднее, их прогулка начиналась при дневном свете.
— Можно собаку взять, — предложила моя мама.
— Нет уж, пойдешь вдвоем с матерью, — отрезала бабушка Линн. — Сладкая парочка.
Они никогда не были близки. И обе это понимали, но не любили признавать. Изредка друг дружку подкалывали, как две девчонки, которые не очень-то ладят, но во всей округе не могут найти других сверстниц. Зато теперь бабушка, которая раньше только смотрела, как ее дочь несется по воле волн, уверенно шла на сближение, хотя раньше к этому не стремилась.