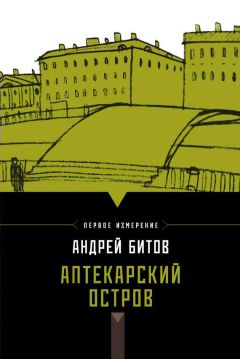Поднявшись, все повосхищались его вторым этажом — его кабинетом с паутиной; приятель — впрямую льстя, хотя и с этакой дружеской грубоватинкой, она — так, как ему бы это больше всего понравилось: не высказываясь, а просто окинув все взглядом согласия и удовлетворения, словно она и раньше хорошо и с интересом обо всем этом думала, о Сергее и его загородном житье, и довольна теперь, что все так и оказалось и не разочаровало ее, и сам Сергей, взглянув на все их глазами, был доволен и своим этажом, и собой.
Хотя обращался Сергей в основном к приятелю, а приятельница молчала, она все больше занимала его внимание. Время от времени он поглядывал, как она взяла что-то с его стола и разглядывала, а потом положила на место, как она прислушивалась к разговору, как двигалась, аккуратно обходя паутину, и как улыбалась. Была в ней какая-то свобода и смущение одновременно, что сообщало ее здесь присутствию оттенок заинтересованности, большей, чем любопытство, и эта заинтересованность льстила Сергею. И было в ее движениях что-то от такого приятия всей обстановки и Сергея в том числе, что сразу естественным и вечным показалось ему ее существование тут и как будто она должна была бы остаться, а приятель — уехать. То, что Сергей никогда не видел их вместе и не слышал об этом, воскрешало в нем детское ощущение присутствия любовников, забытое и таинственное. Такое, например, было, когда старший брат собирал у себя компанию, и Сережа, притихший, сидел в углу и пытался понять, кто из этих красивых девушек имеет отношение к брату и вообще кто с кем, а потом его отправляли спать, а он не спал, прислушивался к шуму в соседней комнате и вспоминал ту девушку, что подошла к нему: «Это твой брат? Какой славный…» — и погладила его по голове, он не спал и высчитывал, насколько он ее младше и сможет ли он жениться на ней, когда вырастет, и приходил к выводу, что, конечно же, сможет, что разница в семь лет — чепуха. Или другое ощущение, когда он был уже постарше и был готов к любви, — вдруг от каких-нибудь двух людей, сидящих за общим столом, не тех, что шумно подчеркивают свою связь и находят в том сладость, а других, молчащих, сидящих порознь, у которых тайна, сговор, телепатия, и нет у Сергея никаких тому доказательств, но это так. Как в детстве невозможным, высшим, недосягаемым счастьем казалась ему такая связь двух людей в море жизни, отдельных друг от друга, так и сейчас, не так сильно, но затеплилось что-то похожее, напоминавшее настоящее.
Кроме того, глядя на нее, ему начало казаться, что он был с ней когда-то, что-то между ними было, и сговор повисал уже между Сергеем и ею, над приятелем. Ощущение было недурным, немного тревожным, потому что и действительно начинала вспоминаться какая-то облезлая комната, и сумерки в ней, и пепельница из консервной банки на подоконнике. Было или не было? Приснилось, может? Да нет, не было, не забыл бы; придумал, пожалуй… Но нет, какое-то согласие, какая-то нить уже протягивалась между ними, и оба ощущали ее, он знал, и она тоже. Но это не было все-таки просто симпатией, что-то было с оттенком воспоминания, и он никак не устанавливал что.
Они поболтали в его кабинете и вышли на балкон. Низкое солнце осветило их сбоку. Длинные косые тени балясин устраивали свою геометрию на полу. Ветер, сильно дувший третий день, трепал деревья, но балкон был с подветренной стороны, и ветер не попадал сюда, только все время был ощутим: слышен и виден. А они сидели на теплых от солнца досках и продолжали свою беседу, не запомнить о чем. Рассказывал приятель. Сергей и слушал, и не слушал его. Появилась жена, которая наконец усыпила сына. Но это не прервало ощущений Сергея, а даже усилило их. Связь между ним и девушкой не рвалась, он чувствовал ее натягивающейся, и нечто необычное казалось ему, слегка романтически, в том, что они не делали никаких видимых усилий для ее поддержания, ничего специально направленного, взглядов вроде не было, поз, и чувство, близкое благодарности, возникало в нем за то, что она не сделала ни одного движения, способного оборвать их нить. И счастьем казалось то, что не было растущего возбуждения и напряжения, все оставалось незамутненным, их связь усиливалась словно помимо их желания, и они как будто даже приглушали ее. И из этого рождалось в нем чувство легкости и естественности, чего-то такого редкого, после чего не будешь чувствовать ни раскаяния, ни стыда. Словно все уже было, но ничего, кроме легкости и благодарности, не осталось в последствиях, а уж легко ему бывало мало когда, да и не бывало.
Они мило поговорили, то да се. То было об однокашниках и знакомых, кто кого видел, но никто никого не видел: каникулы. Се — о делах, что на что похоже в свете сегодняшнего дня, но ничто ни на что похоже не было, да и дел не было: каникулы.
Они уже исчерпались и стали понемногу испытывать неловкость, молча разглядывать вид, открывавшийся с балкона, мало, впрочем, занимательный, когда приятель сказал, что вот она, имея в виду приятельницу, напрасно хочет утаить от всех те прекрасные песни, что привезла откуда-то. Пусть споет, пусть споет, попросили они. «Я их не таю, я спою», — сказала приятельница. И она спела просто и не натужно, даже интересно спела, словно пользуясь тем, что у нее нет голоса, и обыгрывая это. Сергей совсем растаял, потому что решил, что пела она для него. Из трех или четырех песен, которые и на самом деле были хороши, он почти ничего не запомнил из-за этого. Только начало одной. Эта песня даже отвлекла его от сладких воображений. Двусложные слова в конце каждой строки пелись с двойным ударением, отчего слова эти казались разбитыми, как бы черепками слов-рюмок и слов-чашек. Это придавало песне еще более диковатый характер, чем странный текст, ускользающий мотив и отсутствие рифм.
Какой большой ве-тер
напал на наш о-стров
и снял с домов кры-ши,
как с молока пе-ну… [1]
Песни были спеты — они опять молчали. И когда внизу закричал сын, все услышали это как бы с радостью, вскочили, с удовольствием разминаясь и потягиваясь, и заговорили, слишком громко и оживленно без всякого перехода от молчания.
Сын сразу же успокоился, увидев людей. Вышло, что кричал он лишь потому, что желал общества. Общество он получил и даже к незнакомцам отнесся теперь благожелательно. Он ходил по комнате, попадая из рук в руки, собственно, не попадая, как бы падая из одних рук в другие, потому что между тем, как кто-то его отпускал, а кто-то подхватывал, был один его самостоятельный шаг, и тот был падением.
Так, увлекаясь и радуясь вместе с сыном, Сергей вдруг обернулся, словно на звук, и поймал взгляд девушки. Взгляд, как ему сразу показалось, таил в себе некий оттенок, и потому, что она, пожалуй, долго на Сергея смотрела, а сейчас отвела взгляд слишком поспешно, словно он выдавал ее, этот оттенок стал для Сергея безусловным — и он смутился. Он откинулся тогда на тахте, голова его ушла в сумрак: отсюда он мог наблюдать и приходить в себя.
Какое-то по-детски отчаянное замирание ощущал он при каждом взгляде на девушку (теперь она старательно не смотрела на него, и это, конечно же, давало Сергею новое подтверждение) и ребяческую решимость неведомого еще ему самому поступка, сладкого несмертельной, вкусовой опасностью. Он поэтому никак не мог почувствовать себя свободней, расковаться и продолжал лежать, спрятав голову в тень. Тут обнаружил он спасительную пушинку, вроде одуванчиковой, улегшуюся ему на колено. «На счастье…» — вспомнил он примету времени пионерских лагерей. Пушинка подсказала ему действие, а действие освободило от неловкости: он устроил пушинку на вытянутый палец, взглянул на девушку, как бы намекая, что за желание он загадывает, и тщательно дунул. Пушинка взлетела под потолок, была она отчетливо видна и лишь под самым потолком исчезла, слившись с меловой поверхностью. Сергей упорно всматривался в пустой воздух и вдруг обнаружил пушинку ниже той точки, где собирался ее найти, — она степенно падала вниз. Тут ее заметил и сын: взвизгнул и протянул ручку, заговорил много и непонятно. «Подумать только, — сказал Сергей с простой гордостью, — такую мелочь, пушинку, и уже замечает…» Он поймал пушинку и снова дунул…
То ли все, как Сергей, увидели пушинку глазами детства, то ли сын передал свой взгляд на вещи, но все увлеклись необычайно. Пушинка резко взлетала и медленно падала, то сливаясь и исчезая, то становясь зримой, чем обозначала какую-то невидимую в воздухе чересполосицу света и тени. Сергей глупо озирался, а кто-то, первый ее обнаруживший, кричал: «Да вон же она! Вот!» Сын каждый раз, как видел пушинку, радовался все сильнее; недоумение и растерянность, как шторка, падали на его лицо, когда он терял ее из виду, и радость еще более сильная сменяла эту растерянность. Это усиление чувств от повторения, а не затухание, что казалось Сергею соответствующим человеческой природе, приятно удивляло его в сыне. Пушинка опять исчезла. «Вот она! Я вижу!» Сергей узнал голос девушки, отвлекся и вдруг увидел все со стороны. Сын при этом видении остался в том же значении. Остальные, взрослые, казалось бы, люди, сидели с полураскрытыми ртами и расплывчатыми улыбками; их взгляды пересекались, соединяясь где-то в центре комнаты в почти невидимой и подвижной точке, и были так напряжены, словно это был спиритический сеанс, где общим телепатическим усилием сообщалось движение пушинке. На лицах была такая увлеченность, как бы одержимость, почти упоение, словно пытали судьбу, словно ставили состояние… Оттого, что он увидел всех как бы открывшимися самой беззащитной и нелепой своей сущностью, Сергей ощутил унижение, благодарность и неловкость подглядывания. Он поймал пушинку и задержал ее. Некоторый миг присутствующие как бы возвращались к действительности, и когда он заметил первый отблеск узнавания, сказал: «Вот ведь… взрослые люди…» — все засмеялись без смущения, — тогда ему стало ясно, что он преувеличил, как всегда, и, как всегда, ему стало неприятно от этого. «Ну, нам пора», — сказал приятель, и это «нам» резануло Сергея и совсем отрезвило.