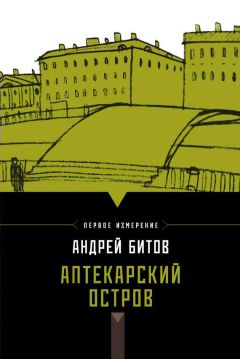…Он пошел проводить их до станции, уже скучный и удрученный. Все произошло, впрочем, так, как должно было произойти: им с самого начала предстояло уехать вдвоем, но для Сергея уже несправедливостью и обидой было, что вот они уходят вместе, приедут в город, где придут куда-нибудь и останутся вдвоем… Сергей вроде ревновал, но не сознался бы себе в этом. Ему становилось все скучнее, потому что начинало казаться, что он сам все надумал про значительную связь между собой и ею, что ничего-то такого не было, что она, во всяком случае, ничего этого не ощущала, а он, быть может, выдавал себя какими-нибудь нелепыми движениями, и она посмеивалась над ним, а оставшись вдвоем с приятелем, они посмеются над ним вместе… Это было унизительно — резко менять восприятие: только что было радужное чувство, тоже из детских, забытых.
Так, уже молча, брели они к станции. Ветер подталкивал их в спину, погонял. Воздух был удивительно прозрачен, все дали — как бы обведенными. Красное солнце лежало на горизонте и просвечивало все насквозь, словно пронзая предметы на своем пути. Несколько длинных и узких облаков, казалось, были воткнуты в солнце, как красные стрелы или красные перья. Засохшее дерево около склада стройматериалов, уродливая коряга, выглядело жутко и красиво, черное на красном закате, так красиво, что на картине это было бы безвкусно. Было, в общем, холодно, такой был ветер, и, может, поэтому людей совсем не было, а те, что были, как-то неподвижно стыли на ветру, и казалось, именно они создавали ощущение безлюдности, и не будь их, его бы не было. Ветер мчался по рельсам, гнал щепу и мусор оттуда, где разгружались товарные вагоны, и еще — и это показалось ему бесконечным, когда он увидел, — ветер гнал большой лист картона с ободранными краями, ветер переворачивал его, лист вставал, замирал на мгновение, затем шлепал по насыпи и прокатывался, лежа и пыля, и снова его переворачивало, и на какой-то краткий, но очень длительный по ощущению миг он замирал и, дрожа, сопротивлялся ветру. Они по-прежнему молчали, теперь стоя на платформе. Подходила электричка, и они пожимали друг другу руки, почему-то сначала приятель сунул свою руку (из-под мышки у него глупо торчал пистолет), а потом уже она подала свою. И как-то так подала она ему руку, и пожала, и посмотрела, что это все он дурак, а что-то было, что-то будет, у него защемило, он старался сдержаться, но не мог — заволокло глаза, и видел он мутно, боясь сморгнуть слезу. Электричка трогалась, они махали из вагона — она махала, а приятеля он не видел, тот исчез со своим пистолетом, растворился, его и не было. И электричка увезла ее в сторону, в какую дул ветер, на самом деле — в город.
Он еще постоял немного и был счастлив. Мысль о том, что он обязательно увидит ее в городе, неотчетливо существовала в нем. Еще он с внезапной, резкой нежностью подумал о жене и сыне, о доме, куда он сейчас вернется, и снова о жене, что он сейчас ее увидит, как после долгой разлуки…
Медленно побрел он назад, против ветра, мимо склада и мимо разгружавшихся вагонов, и мусор летел ему в лицо, «какой большой ве-тер», он переходил пути, и в этом перешагивании рельсов было такое одиночество, и во всей этой пустоте, обдутости кругом, «напал на наш о-стров», им овладело ощущение отрезанности от мира, и это было хорошо, о-стров… действительно остров!.. Гладкая отмель, и желтое мутное море, и хибарки на тонких ногах, и крыши из широких жестких листьев, «и снял с домов кры-ши», ветер гнал большой лист картона, тот вставал, замирал на мгновение, затем шлепал по насыпи и прокатывался, лежа и пыля, и снова его переворачивало, и на какой-то краткий, но очень длительный по ощущению миг он замирал и, дрожа, сопротивлялся ветру…
А вот его тихий дом, и крыша цела. Его дом, его крепость — второй этаж… Сергей вспомнил, как летел его этаж, тогда еще пошел град, он побил все всходы… «И снял с домов кры-ши, как с молока пе-ну…» Его пробирал озноб. Он поднялся на второй этаж — его трясло…
Вечерами, когда он, опустошенный, с легким, нереальным звоном в голове, спускался вниз и пил с женой чай, он думал, что именно это называется счастьем. Он включал приемник, и француженка пела свою песенку, чай был крепок и горяч, жена, бесконечное его знакомство, не то шила, не то пила с ним чай — была рядом, и никуда не надо было Сергею уезжать от нее, и сын еще не спал и протягивал им игрушку… И Сергею казалось, что это тот самый мир и покой, которые он будет вспоминать всю свою жизнь — ведь жизнь неизвестно как еще может повернуться.
1963, Токсово
— Вы, говорят, слишком молоды… А я говорю: не виноват.
Вот сейчас хожу и думаю: вот об этом бы написать и об этом. И вон об том…
А потом, страшное дело, буду ходить и — о чем бы написать? О чем? Мое же дело?! Об этом? Но почему же именно об этом? Или о том? Тоже ни к чему…
«Автобус» (1961)Дневник единоборца
18 июня 1963Приснился мне сон. Словно бы какое-то собрание. Помещение, как всегда во сне, было неопределенным, не то зал, не то подвал, то ли много раз мною посещенное, то ли я оказался там впервые, — собрание вроде писательское. Хотя словно бы ни с кем я не знаком… В общем, гибридное из сна и памяти сочетание: чего-то очень хорошо знакомого и чего-то совсем мне неизвестного.
Таковы были публика и зал. Собрание, по всей видимости, носило идеологический характер. Какие-то там кипят страсти, кто-то подличает, кто-то лезет: кто и что — не помню, только — мерзко. В зале (словно бы в нем нет окон или зашторены, заложены и законопачены наглухо) — полутемно, и свет слабый, грязно-желтый, а люди сидят, как в сельском клубе, на длинных простых скамьях — сомкнутые и неразличимые, слитные.
И вот словно бы все оборачиваются ко мне, и я, тихо стоящий где-то вдали от президиума, у стенки, оказываюсь центром. Словно бы указывает на меня со сцены Председатель, словно кто-то шепчет мне жарко в ухо, подстрекает (никак мне не обернуться к нему — все он из-за спины…), кто-то очень знакомый, может, из приятелей даже, и все-таки неопределенно — кто. И мне становится понятно, что от меня требуют «высказаться»: вот вы все молчите, отмалчиваетесь, а сами как думаете? не так? так имейте смелость… Я все не в силах отделиться от стены и уже чувствую, что, если меня вынудят, не могу уйти в кусты: отмычаться, ни да ни нет, ни правда и ни ложь, — неопределенного желе из страха и желания остаться «честным» на этот раз не получится. И я скажу все, что только в силах сказать, по способности и потребности, состоянию и образованию, страху и упреку.
Я еще стою у стенки, мне шепчут сзади в ухо, подталкивают; что-то холодеет и опускается во мне от страха и решимости; в бешеном темпе мелькают в мозгу, перемежаясь спазмами боязни, обрывки первых фраз и варианты начал… и вдруг я стою на сцене, на этом любительском помосте: передо мною и чуть подо мной — зал, таится в темноте, молчит и дышит, я его не вижу и говорю. Удивительно говорю, в трансе искренности и слепоты — как решившись прыгнуть, а душа ухает и замирает в полете… Может, и неумно говорю, но по крайней мере достаточно, чтобы взволновать себя и зал. Что сказал — и не запомнил, как ни силился потом, — только две фразы:
«…Если Семена Бабаевского переместить сейчас в Китай, он там сыграет роль Василия Аксенова, а если Василия Аксенова переместить в Соединенные Штаты, то чью роль он там сыграет? Так где же литература? Не о том речь…»
И другая:
«…Если миллионы, несколько, всех, что есть, — то ли это евреи, то ли художники, то ли просто живые люди — собрали и повели куда-то под конвоем к обрыву, к расстрелу, к уничтожению и один из них оказался вдруг (трудно ли допустить ошибку при таких масштабах!..) не еврей, а удмурт, не художник, а слесарь, не живой, а труп, то он кричит: „Какая несправедливость!“ Не от его лица говорю…»
И вот я кончил, я иду в узком проходе между скамьями, и кругом такое молчание, напряжение и дыхание, словно там не выход, куда я иду, а могила, обрыв, небытие. Я иду и просыпаюсь с каждым шагом.
А проснувшись, вижу солнце из-за шторы и напротив кроватку моей Аннушки: она проснулась уже, увлеченно и деловито тормошит пеленку и прибулькивает от наслаждения. Почему-то она чувствует, что я смотрю на нее, отвлекается от пеленки и смотрит на меня, узнает — это видимым движением проходит по ее лицу узнавание, — расплывается, обрадованная, и впервые говорит мне «па-па».
21 июняКогда мы говорим «несправедливость», всегда подразумеваем какой-либо общественный процесс. То ли тебя посадили, то ли тебя расстреляли, то ли лишили ожидаемых или заслуженных прав или благ, то ли делу твоему помешали — всегда подразумевается какая-то протяженность времени до этого плачевного результата, какое-то количество лиц, участвующих, какие-то силы, посторонние, внешние, в это включившиеся. Все меняет свою окраску, если представить себе результат, нас страшащий, пришедшим внезапно и сразу, раздавившим в такую долю секунды, что ты ничего не успел и почувствовать, лишенным предыдущих мытарств, лживой логики, не умещающейся в мозгу, общественного окружения, свирепых бумажек с подписями — и про-тя-жен-но-сти. Тогда оказывается, что именно процесс, приводящий к результату, мы называем «несправедливость», а не сам результат, который скорее — рок, судьба, конец, и не будь этого изматывающего вращения в неких общественных сферах, когда мы осознаем приближение страшного результата, когда познаем силы зла в этой, общественной же, сфере, их неумолимую логику, заключающуюся лишь в отсутствии логики, в бесповоротной силе утверждения предписанного (когда такое утверждение совпадает с нашими интересами, обычно не ведется речь о несправедливости, а ведь механизм тот же у этих сил: одинаково, что они совпадают, что не совпадают с нашими интересами), не будь этого осознанного лишь как внешняя механика неумолимых сил, то есть не помещающегося в сознании, вращения — все превратилось бы в случай.