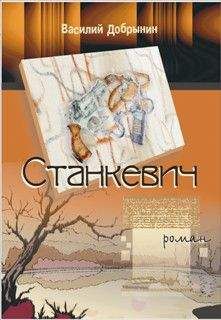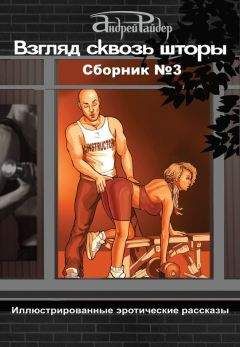Дизайн ресторана был модернистским до отвращения: кубы побольше — столы, кубы поменьше — стулья, волнистые линии ступеней, поднимавшихся к сцене и микрофону, абстрактные картины на стенах, исполненные хозяином ресторана, прежде отродясь не прикасавшимся к кисти. Поп-ансамбль, четверо худощавых парнишек, одетых и причесанных под битлов, Исполнял песни ливерпульской четверки, изредка для разнообразия переходя на «Ролдинг Стоунз», «Энималз» или «Манкиз». Для «детей цветов», ужасно надоевших Корсакову еще в университете, ресторан был чересчур буржуазным, и приходили сюда посетители, позаимствовавшие у хиппи лишь чрезмерную волосатость, немытость и расхристанность в одежде, что отнюдь не мешало им наживаться на торговле наркотиками, постепенно доводя собратьев по движению до умопомешательства. Прочие посетители носили либо буржуазные темные костюмы и галстуки, либо модные блейзеры и приталенные рубашки.
Присев у стойки на крайний справа вращающийся табурет неописуемо модернистской формы, Корсаков поднял ладонь в приветственном жесте. Бармен подошел к нему и, наполняя один бокал неразбавленным виски со льдом, а два других — апельсиновым соком, произнес вполголоса с приветливой улыбкой: «Для вас ничего нет». Корсаков улыбнулся в ответ, кивнул и принялся за сок, время от времени вместе с табуретом как бы механически описывая полукруг. При этом в поле его зрения попадал весь зал — и площадка, где извивались фигуры танцующих, и освещенный прямоугольник входа в мойку, и та часть зала, где были расставлены столики, люди за которыми беседовали, смеялись, чокались и где в полумраке, лишь подчеркиваемом мягким светом настольных ламп, там и сям багровели огоньки сигарет.
Рука Корсакова мягко скользнула под левый борт его джинсовой куртки — там под мышкой в замшевой кобуре покоился пистолет «эр крю» 38-го калибра. Пульсирующие вспышки разноцветных ламп под потолком раз за разом высвечивали у дальней стены зала два знакомых лица: резкие черты уроженцев Средиземноморья, смоляные волосы, великолепные сахарные зубы. Три девицы сидели рядом с ними и смеялись не переставая. Корсаков решил подождать появления кавалера третьей девицы, и когда тот вскоре подсел к столику, он узнал в нем парня с обрезом, сидевшего в тот вечер на штабеле матов. Корсаков, нахохлившись, сидел перед стойкой, по-прежнему как бы машинально поворачиваясь вправо-влево, но пистолет под курткой уже перекочевал из кобуры в его руку. Щелчка предохранителя никто не услышал, указательный палец ласково лег на спусковой крючок. В такие мгновения Корсакову всегда казалось, будто оружие оживает, становясь частью его тела. Маленький, но грозный пистолет, приспособленный для стрельбы винтовочными патронами, словно запульсировал в его руке, наливаясь таинственной жизнью, несущей смерть по воле своего хозяина. Корсаков отхлебнул холодного сока из бокала, который продолжал держать в левой руке. Ансамбль на сцене заиграл «Облади, облада», кончавшуюся здесь по традиции диковинным гвоздем программы — десятиминутным соло на ударных. Подхватив заключительные аккорды гитар, удар ник, не переставая поддерживать основной ритм, как бы на пробу пробежался палочками по всем барабанам и затем принялся накидываться с занесенными палочками то на один, барабан, то на другой. Вокруг главного ритма начали стремительно нарастать прихотливые ритмические завитушки, и в этот момент Корсаков легонько носком ботинка оттолкнулся от никелированной металлической трубы, тянувшейся вдоль всей стойки и служившей подставкой для ног. Поворачиваясь влево вместе с табуретом, он описал уже привычный полукруг и в его заключительной точке нажал на спусковой крючок — раз, другой, третий. Воля стрелка уверенно прочертила в пространстве линии, по которым из дула «эр крю» с глухим рыком ринулась смерть. Во вспышках ламп,- ритм которых совпал с ритмом стрельбы, Корсаков видел, как один из убийц Томми взмахнул руками и вместе с креслом отлетел к стене, о которую тут же разбился вылетевший из его руки бокал. Затем мертвец боком повалился на пол и исчез за столом — о нем напоминали только два темных пятна на стене: вырванная пулей вместе со сводом черепа и влепившаяся в стену кровавая масса, а чуть выше — след от разбившегося стакана с коктейлем, напоминавший экзотический цветок. Следующая вспышка впечатала в память Корсакова странную плаксивую гримасу второго убийцы — такую гримасу фотоаппарат фиксирует порой на лицах боксеров, пропускающих удар в лицо. Пуля, вошедшая под левый глаз, заставила голову резко мотнуться влево, бандит всплеснул руками, но в ту же секунду безвольно уронил на стол и руки, и голову, повалив и перебив добрую половину бутылок и стаканов. Третий сидел вполоборота к столу, правым боком к стойке; Корсаков запомнил подошвы его башмаков, когда парень, сбитый с кресла пулей, вошедшей в шею под ухом, дрыгнув ногами, полетел в темный угол.
Все произошло секунд за двадцать и совершенно беззвучно, потому что ударник продолжал выбивать палочками свои ритмические узоры; когда же он закончил соло, уронив руки с палочками и голову с длинными прядями мокрых волос, Корсаков уже не спеша шел к выходу между площадкой для танцев и столиками. Тишина сохранялась не более секунды, а затем в нее ворвался душераздирающий женский крик. Кричала одна из девиц, сидевших за столиком с убитыми; спустя миг к ней присоединилась вторая, затем завизжала третья. Корсаков не ускорил шага и только прижал локоть к левому боку, где в куртке зияла дыра, пробитая изнутри пулями, а руку с пистолетом сунул в карман. На пороге он обернулся, выхватил пистолет и четко, как в тире, выпустил по контрольной пуле в каждого из парней, только что составлявших веселую компанию: первому — в голову, второму — в левый бок, третьему — тоже в голову. Две девицы, продолжая вопить, бросились лицом вниз в кресла, обхватив головы руками. Третья, стоявшая ближе всех к Корсакову, перестала кричать, прижала руки к груди и вперила в лицо Корсакова расширившиеся от ужаса глаза. Тот встретил ее взгляд и вдруг понял: она была уверена, что сейчас умрет. Корсаков подмигнул ей, сказал:
«О'кей» — и в два прыжка выскочил на улицу, под мелкий теплый дождь. Пробежав по улице метров двадцать, он свернул в проходной двор, точнее — узкий, загроможденный пустыми коробками и кучами мусора проем между домами. Там он избавился от куртки и кобуры; продолжая бежать, он разобрал пистолет и все части одну за другой побросал в водосточные решетки. Всякий раз, подходя к возможному месту встречи с теми, кого он искал, Корсаков составлял для себя в уме план местности и маршрут ухода, и теперь двигался уверенно, не тратя времени на принятие решений, не выбирая, ку-да-свернуть. Через несколько минут он уже смешался с толпой на станции городской железной дороги, пропетляв перед этим такими закоулками, через которые полицейские машины никак не могли бы пробраться. Держась за поручень и покачиваясь в такт вагонной качке, он вспоминал Томми Эндо и улыбался.
На следующий день Корсаков направился на ближайший вербовочный пункт и завербовался в армию. То обстоятельство, что ему еще не исполнилось восемнадцати с половиной лет, не явилось серьезным препятствием, поскольку кампания про тив войны во Вьетнаме достигла высшей точки, и призывников катастрофически не хватало. Вечером того же дня Корсаков впервые в жизни пил с отцом на равных. Отец запретил ему говорить матери о своем решении: «Если она узнает задним числом, ей будет легче перенести», — сказал он. Федор Корсаков ни о чем не расспрашивал сына, не давал ему советов, не жаловался. В последние месяцы он вообще чаще только слышал сына, когда тот за полночь приходил домой и рано утром уезжал в университет. Федор Корсаков замечал, разумеется, что сын отдаляется от него, и отдаляется в силу внутренних изменений, отражающихся в речи, во взгляде, в манере держаться. У Корсакова-старшего хватало времени для наблюдений и размышлений; то новое, что он видел в сыне, он мог выразить одним-единственным словом — «война». Он не мог возражать против этих изменений после своих рассказов, своих разговоров о «породе», вопреки собственным убеждениям, однако он сам боялся признаться себе в том, что его пугают та последовательность, та беспощадная избирательность, та уверенность в себе, с которыми сын относился ко всем попыткам воспитания, ко всем влияниям извне. Но «войну» в переносном смысле, войну сына против всего того мира, в котором и ему самому не нашлось места, Федор Корсаков еще мог бы перенести — теперь же сын уходил на самую настоящую войну, и вовсе не с теми, с кем в нынешнем мире, по понятиям Федора Корсакова, стоило бы воевать. Корсаков-старший не питал никаких иллюзий относительно того, что Виктору, может быть, удастся пристроиться где-нибудь в тылу: спортивная подготовка, бруклинское происхождение, отсутствие покровителей и добровольная вер бовка — все говорило за то, что быть ему во Вьетнаме, хотя сам он вряд ли рвался в бой-за величие Америки. Федор Корсаков чувствовал, как из него уходит жизнь, точнее он, упорно сопротивляясь, сдавал болезни и смерти одну позицию за другой, и этот процесс был как-то связан в его сознании с процессом отдаления сына; теперь он завершился, и окончательное поражение сразу стало свершившимся фактом. Федор Корсаков знал, что никогда больше не увидит сына, и потому вся его будущая, весьма недолгая жизнь сохраняла смысл лишь постольку, поскольку, даже терпя поражение и умирая, солдату следовало сохранять достоинство. До самого своего смертного часа Федор Корсаков чувствовал неловкость, когда вспоминал, как украдкой разглядывал сына и как пугливо отводил глаза, стоило сыну перехватить его взгляд. Он не знал о том, что и сын с того самого вечера не мог вспоминать без боли перехваченные им взгляды отца.