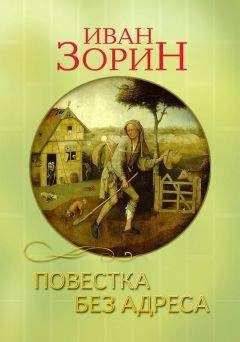Ни злорадства, ни превосходства — его речь выражала лишь чистую волю, делающую будущее таким же необратимым, как и прошлое.
— Это как в картах: король бьёт валета.
Лиховерт тупо уставился на холёные ногти. Слова заражали безысходностью, которую он подхватывал, как насморк.
— Твоя взяла, — пробормотал он через час, подписывая признание.
А дома Емельян стоял насмерть, отбив все приступы, и самые опасные — на рассвете.
«Что же, прикажешь мне глазам не верить?» — уже с сомнением шептала жена.
Но он не поддавался на жалость. Его сердце было из кремня, который не сточить ни угрозам, ни состраданию. Из кухни переходили в комнаты, от осады — в наступление, но он выстоял и под огнём, и в рукопашной. «Я сегодня была там, — раз призналась жена, — хозяин встретил меня, как безумную…»
Рогов был не из тех, кто дважды наступает на грабли. Выслушав его исповедь, сослуживец долго смеялся, отказываясь заметать чужие следы. «Ложь во спасение свята, как правда», — уламывал Емельян, покрываясь потом.
И, в конце концов, тот сдался, взяв грех на душу.
Время ходит кругами, и Емельян был уверен, что жена мечтает снова сверять его по семейным ужинам. «Присядь на дорожку — и не будешь ей рад», — учил он её, предлагая семь раз отмерить, прежде чем ударить палец о палец. Он полагал, что жизнь течёт по руслу привычек, которое не сдвинуть ни на йоту: в первой половине оно наводняется, во второй — мелеет.
И оказался прав. «Значит, мне привиделось», — однажды приняла она его игру. Извинения давались ей нелегко: язык заплетался, но она твёрдо держалась сочинённой для неё легенды.
«Измена, как придорожный камень: вблизи — валун, а оглянёшься — деталь пейзажа», — подумал Емельян.
И, великодушно шагнув навстречу, обнял её своими длинными руками, показавшимися обоим чужими.
Роговы до сих пор делят стол и постель. Он по-прежнему изменяет, она, следуя его рецепту, закрывает глаза. В своей добровольной слепоте она почти счастлива и только иногда плачет.
«Волей можно добиться чего угодно, — сквозь слёзы захлопывает она копилку его афоризмов, — только не любви».
Отца Витька лишился ещё в малолетстве. «Завербовался на север скважины бурить, — рассказывала мать, разглаживая Витькины вихры, — там и сгинул». Витька косился на её худое, постаревшее лицо, на скупые, неискренние слёзы. А повзрослев, узнал про пьянство, ежедневную грызню, принудительное лечение, которое она устроила отцу, и про сожаление, что из тюрьмы шлют скудные алименты. Витька думал навестить отца, но не успел. Читая извещение о смерти, он представлял убогие, казённые похороны и ехать за тридевять земель на могилу с наспех сколоченным крестом не захотел.
Школу Витька закончил с грехом пополам. А после выпускного вечера, на котором он выделялся залоснившимся отцовским пиджаком с подвёрнутыми рукавами, мать сбила машина. За шаткой оградой на далёком загородном кладбище Витька размазывал кулаком слёзы, а потом возвращался в неуютную, разросшуюся от одиночества квартиру. И получив повестку в армию, был рад.
Россия большая, и Витька служил в захолустном гарнизоне на другом конце земли, а, вернувшись, где только не работал. И гардеробщиком, и банщиком, и официантом. Он раздобрел, его круглое, с ямочками, всегда чисто выбритое лицо стало привлекательным, а услужливость приносила хорошие чаевые. Он прятал их в розовую свинью с прорезью на спине, а когда она переполнялась, разбивал, относил деньги в банк и заводил новую.
Рядом с домом, через шоссе, было рабочее общежитие, куда Витька ходил по воскресеньям. Там он иногда дрался и оттуда приводил женщин. Если познакомиться не удавалось, подолгу сидел в буфете: рассказывал про армию, пил водку и ругал «жидов». Так бы всё и шло, но надоело быть на побегушках. Он продал родительскую квартиру, взял угол на окраине, а разницу пустил в оборот. Одолжился, добавил нажитое и всё вложил в дело. Когда оно прогорело, Витька заперся дома. Целыми днями тряс лохматой головой, сплёвывая между колен на грязный линолеум, подливал водку в треснувший стакан. Он щурился, поднимая стекляшку на просвет, крутил так, чтобы не пораниться, пока не валился под стол. А когда однажды очнулся, за столом сидели крепкие ребята, совавшие под нос кулаки и бумагу. Витька подписал — и его угол пошёл за проценты. С него требовали и долг, грозили включить счётчик. А для «науки» сломали ребро.
В палате встретили неприветливо. «Иван Ильич», — сухо представился долговязый преподаватель философии, согнувшийся, как колодезный журавль. Пётр Прокопьевич, отставной полковник, безразлично кивнул. Уже на другой день Витька понял, что они — мертвецы, но отметил это с полным равнодушием: своё горе заслоняло чужое. Лёжа в темноте с открытыми глазами, Витька слушал, как во сне охают соседи, и видел впереди только сгустившийся мрак.
Внизу находился морг. Хмурым, серым рассветом философ, сухо кашляя, наблюдал, как вывозят покойников. «Представляешь вселенскую трагедию, — шевелил он распухшим языком, — а ждёт каталка и пьяный санитар». Сгорбленный, он становился похож на ворона, и Витька ёрзал от холода, залезавшего под одеяло.
А философ не отступал. «Жалок человек, — расхаживал он по палате в рваных кальсонах. — В лесу — болото, в болоте — мох, родился кто-то, потом — подох…» Он обводил всех мутными голубыми глазами, ожидая возражений, но слова повисали в воздухе.
Рукомойник плевал ржавчиной, обмылок выскальзывал из рук. Причёсываясь перед треснувшим зеркалом, Иван Ильич видел среди морщин набухшую венку. От лекарств шелушился лоб, высотой которого он гордился в молодости, а теперь лоб был ему противен, и он спешил отвернуться, зачёркивая венку на пыльном стекле.
Коротая время, засиживались в столовой с решётчатыми окнами, пили чай, соря на скатерть хлебными крошками.
— Думаете, только у нас плохо? — ворчал Иван Ильич. — Везде каннибалы. Что сейчас, что при царе Горохе…
Давясь, он сделал глоток.
Полковник криво ухмыльнулся:
— А если и Бога нет?
— Может, и есть, да не про нашу честь.
По горлу полковника заелозил кадык.
— Хотите сказать, при жизни гадаем, а по смерти — недостойны и краешком глаза?
Начинался русский спор, бесконечный, как ночь. А Витька вдруг вспомнил тёплый туман, который висел клочьями над лесом, таился в оврагах. Выплеснулось солнце, перламутром вспыхнула роса. И вдруг — грибной дождь! Маленький, счастливый, он шлёпал босиком по лужам рядом с матерью, стегая палкой заросли кусачей крапивы. Куда всё девалось? Неужели исчез навсегда лес, туман, мокрое лицо матери, неужели всё смыто дождём?
Развесив уши высохших листов, в кадке чернела пальма.
— У нас юродство в крови, — с раздражением резал Иван Ильич. — Царю угодничают, а псарю — козью морду! У своих же, нищих, воруют… Богат — ненавидят, беден — презирают…
Он уже раздразнил полковника и теперь подливал масла:
— Родился русским — терпи! А зачем? Византия исчезла через тыщу лет, это и наш срок…
Пётр Прокопьевич в растерянности смотрел на Витьку.
— Не вам решать! — оскалился он. — Народу!
— Народ… — заскрипел зубами философ. — Завистлив, злораден. Близких хоронят — крестятся, что сами живы, у соседей горе — и слава богу: не одни на свете бедные-несчастные…
— Так бедные-несчастные! — взвизгнул полковник. — Жалеть надо!
— Конечно, — качнул головой Иван Ильич, — только всё равно — стервятники.
«Он прав, — подумал Витька, угрюмо собирая в тарелке размазню, — народец-то с гнильцой…»
Он вспомнил дедовщину, искалеченных новобранцев, вспомнил, как унижали его и как издевался сам.
Мест не было, и шулера Акима Волина бросили с радикулитом в коридоре. Ему было чуть за тридцать, но курчавая бородка уже серебрилась. Он слегка картавил, а общительность была частью его профессии. «Евгопа, — слушал Витька через час после знакомства, — это стагуха в буклях. Молодится, а нутго давно чегви съели…»
Витьке такие разглагольствования были в диковинку, жадно прислушиваясь, он путался, стуча слепыми костяшками домино. «Каков негодник! — с деланным изумлением сопровождал его ходы Аким. А когда Витька проигрывался, возвращал деньги: — Возьми, возьми, мне только зуд унять…»
А бывало, и играть лень. Растянувшись на дощатом, лупившемся краской полу Аким подсовывал под поясницу подушку с торчащим пером. «Люди, Витёк, дгянь, — позёвывал он. — Дай мизинец — по локоть откусят…» И опять Витька перебирал свой небогатый опыт, и опять соглашался.
Раз в сутки щербатый врач прописывал лекарства. После него мир сужался до булавочной головки. «Сколько осталось, кукушка?» — гадал философ. Ему хотелось геройствовать, хотелось любви, хотелось жить.