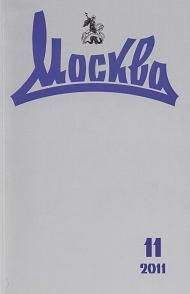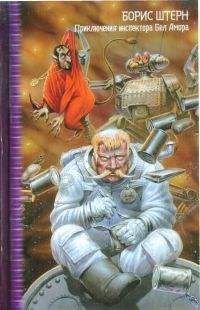Я думал, что меня сейчас вырвет на него, но нечем было, обед сох на подоконнике.
— Что вы так недоверчиво смотрите на меня? Не верите, что вас можно вылечить?
— Не верю.
— А почему?
— Вы хоть читаете плакаты, что висят в вашей больнице?
— Какие плакаты? — наморщил ясный лоб Иван Сергеевич.
Я объяснил.
— Так вы, значит, доктору Чехову верите?
У меня мучительно сводило челюсти, но я все же ответил:
— Верю.
Иван Сергеевич всплеснул ладонями:
— А когда он жил? Еще до Первой империалистической. Даже что такое пенициллин не знал.
— А вы что, пенициллином меня…
Доктор весело хлопнул себя ладонями по ляжкам:
— Нет, есть средства новее.
— Гамма-глобулин?
— О, да мы подкованы. Должен вам сказать, что в гамма-глобулин я лично не верю.
Я недоверчиво поглядел в его светящееся лживым оптимизмом лицо:
— А что, есть еще какие-то?
Он ласково кивнул.
— И случаи излечения есть?
Опять уверенный кивок.
— Но я же читал…
— Чехова?
— Не надо. Я читал энциклопедию. Про медицину. Там так прямо и было написано. И про гамма-глобулин, и что вылечиться нельзя. Нет достоверных случаев.
Произнося эти слова, понимал, что одерживаю несомненную победу в споре, но и понимал также, какая мне следует кошмарная награда за эту победу.
— В каком году была выпущена энциклопедия?
— В каком? Не знаю. Совсем новая на вид.
— Даже если она прошлого, скажем, года выпуска, то представляете, сколько готовится такое огромное издание. В энциклопедии попадают только многолетне проверенные средства. Никаких новейших разработок.
По моему телу прошла сдвоенная ледяно-кипятковая волна.
— Так, значит… есть, значит, разработки…
— О чем я и толкую, а вы упираетесь. Уж и не знаю, чего ради, даже странно.
Он встал, собираясь идти к выходу, а мне хотелось его задержать, чтобы слушать, слушать…
— Постойте.
Он обернулся:
— Что?
— Мне нужно… позвонить. Да, позвонить мне нужно. Очень-очень нужно!
Доктор поморщился:
— Отсюда вам нельзя выходить. Пока.
Оглянувшись, он достал из кармана свой мобильный телефон:
— Только коротко.
— Да-да, я же понимаю…
Домашний не отвечал. Ленкин мобильник был вне зоны. Корчась под недовольным, нетерпеливым взглядом доброго доктора, я набрал телефон тещи.
— Ой, Лены еще нет. Едет. С дедом-то плохо, совсем плохо, утром сегодня разбило его. Никого не узнает.
— Марья Артамоновна!
— Никого не узнает. Совсем плохой.
— Марья Артамоновна, скажите Лене…
— Говорят, что, может, и до завтра не доживет.
— Скажите Лене, чтобы…
Телефон врача замолк, я дрожащей рукой вернул его хозяину, пожимая плечами от нестерпимой неловкости. Сломал. Или деньги кончились, но я же всего несколько секунд…
Иван Сергеевич положил телефон в карман и тихо сказал:
— Будем лечить подобное подобным. — И удалился, закрыв за собою дверь палаты.
Я лег. Мысли шлялись по спирали, и непонятно, то ли по восходящей, то ли по нисходящей. Я одновременно и верил, и не верил словам доктора. Да, книги иной раз лежат в издательствах десятилетиями, и даже новейшая медицинская книжка может содержать устаревшие сведения. Доктор разбирался в медицине, я — в издательском деле, моя информированность подкрепляет его информированность… Но каков Петр Михайлович, тестек мой, он в любом случае меня «сделает», даже если бешенство наплюет на обе информированности. Возьмет и к утру даст дуба, а я еще буду неделю мучиться. Без шансов. Вернее, с шансами только на второе место в заочном соревновании. Это же надо оказаться таким… А может, вылечат? Изобрели там нечто «подобное», им будут спасать. Что бы это могло значить? Прививка кретинизмом против бешенства!
В палате погас свет. Намекают, что ночь. Я закрыл глаза, и сразу стало что-то происходить с моим слухом. Со всех сторон медленно, но неумолимо окружали некие звуки. Журчание, хлюпанье, бултыхание, звуки падающих капель, рокот водопада.
Вода! — понял я и испугался.
Вода мой враг! Мне надо ее бояться. И боюсь. Значит, не надо никаких анализов, и так ясно — попался!
Я открыл глаза и осторожно огляделся. Водные шумы не исчезли. Я старался определить их источник. Может, за теми дверьми? При прежнем, нормальном освещении я не заметил, что в стенах палаты имеются двери, двери. И даже не одна. Синяя лампочка все обнаружила. Ничего себе палата!
Осторожно, стараясь не скрипнуть пружинами, я встал и, скользя подошвами по паркету, подобрался к первой двери и резко толкнул. И попал на кухню. На свою кухню, где почему-то находились Артем и Сережа Казначеев. Второй вертел в руках пустую бутылку из-под «Новотерской», пожимал плечами и повторял, что ему срочно нужен «резервуар для воды». Первый держал в поднятой руке чайник и, скривившись, сосал из носика. Внезапно он повернулся ко мне и плотоядно подмигнул и страшно забулькал водой в брюхе чайника.
Вернувшись обратно, я тут же распахнул другую дверь. Там был туалет, и на крышке унитаза сидел Саша Белай, держа на коленях ноутбук. Под ним самоспуском сливалась вода. Меня он не заметил.
Третью дверь я открывал с опаской. Застал там бодрого голого Сегеня, он стоял с ведром явно ледяной воды, выпуская ртом белый пар. Когда я захлопывал дверь, то услышал, как он облился и зарычал от удовольствия.
Что же делать? — спросил я себя, оказавшись снова на кровати. Вода — смерть для меня! Больше не открывать никаких дверей! Я забрался головой под подушку, но, несмотря на это, отлично различал какую-то булькающую возню за той дверью, что захлопнул Иван Сергеевич. За ней чувствовалось скопление разнообразного люда и шума, заинтересованного во мне. Я был в этом уверен, но только зачем все они явились в сопровождении такой шумной воды? Полежу тихо, небось уберутся.
Нет, почти сразу понял я, никуда не уберутся. Наоборот, сейчас ворвутся и станут мне лить ее, такую холодную, прямо на голову.
Позорно и бесполезно вот так ховаться под подушкой, которая все равно не в силах ни от чего защитить.
Надо встретить страшное лицом к лицу.
Я, рыча от внезапной смелости, вскочил и бросился к дверям. Распахнул.
На лестничной площадке, дыша тяжкими похмельными духами, в облаке морозистого тумана стояли подруги Боцмана. Сам приветливый сосед поднимал за их спинами два пластиковых стакана, чем-то наполненных.
— Седьмое! — дружелюбно вскричал он.
— Какое седьмое? — Не соображалось ничего.
— Пра-аздник, — пропела одна из гнусных гурий. — Ты сам говорил.
— Ты приглаша-ал, — пропела вторая.
— Рождество, Мишель!
В глубине квартиры (так я был в своей квартире?) раздался дребезг телефона.
— Щас, щас… — сказал я то ли ему, то ли гостям, отступая в глубину квартиры, хватаясь попутно за ногу, пытаясь подтянуть левую штанину.
— У нас все с собой! — неслось сзади.
Я схватил телефонную трубку.
— Слушай, Элеонора ушла! — услышал я голос Бойкова и не сразу понял, кто это. Свободная рука яростно боролась с косной штаниной.
— Мы не навсегда, только поздравить! — сообщил Боцман, осторожно входя на кухню и высматривая, нет ли хозяйки.
— Понимаешь, Элеонора ушла. Это кошмар. Ее нигде нет, нигде! Я обыскался.
Я наконец обнажил колено. Почти исчезнувшее уже пятнышко, никаких следов воспаления. Приснилось? Чушь! Я никогда не вижу никаких снов!
— Что мне делать? Как ты думаешь, где она может быть?
— Посмотри, может, она просто пошла в туалет?
Бойков бросил трубку.
Я ошалело оглянулся.
Боцман подбадривающе улыбался:
— С праздником, с Рождеством!
— Да-да, с праздником, — запрыгала одна из подружек и запела жалостливо и неправильно: — «Хепи безди ту ю, хепи безди ту ю!»
Опять телефон: это Ленка. Голос незнакомый, ровный, тяжелый.
— Петр Михалыч умер. Полчаса назад. А у тебя там что, праздник?
— Да нет, как ты могла, я… Праздник вообще-то, Рождество. Но это я вообще так…
— Дед умер.
— Я понимаю, я… извини.
Она бросила трубку. Я сел на стул, разбросав по сторонам руки. Что все это значит? Дед умер. Но почему так радостно на душе?! Я, значит, что же — спал? Весь этот дурдом приснился? Но я же никогда не вижу снов!
Ко мне тянулись дружелюбные руки со стаканами, милейшие поцарапанные, покрытые синяками лица улыбались мне.
Господи, свобода!
Но дед-то помер. Пока я тут смотрел сны. Петр Михалыч, что же ты! Мысленно упрекая его, я все же чувствовал в нем некоего победителя.
На кого они все похожи, очень сильно, сильно похожи, эти физиономии? Почему кажутся такими знакомыми, такими почти родными? Как будто я прожил с ними целую жизнь.
— Давай, Мишель, давай!
Понятно, почему!