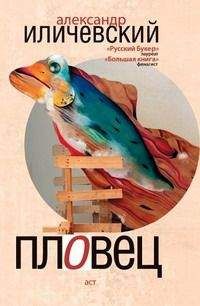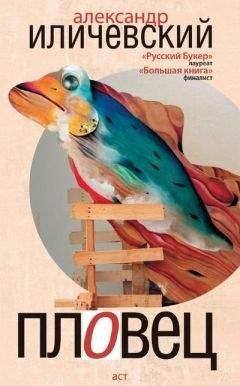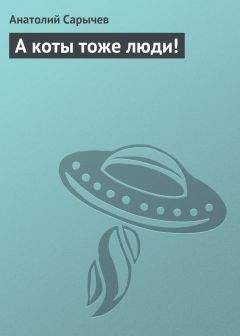Изнутри поезд походил на длинную оранжерею, составленную из объемных теплиц пустых зеркал, нанизанных друг в друга на стеклянную шахту тусклой, мигающей перспективы.
По пустынному поезду то и дело прокатывалась волна мрака: свет отчего-то пропадал по цепочке — в каждом вагоне поочередно. На станциях никто не входил. На платформах медленно горбатились полотеры, толкая тачки машин, как рабы — кубатуру для пирамиды.
Казалось, от мигания света лицо женщины пляшет гримасой.
От упругого поршневого хода воздух в тоннеле, не успевая податься вперед, сжимался по стенкам до плотности урагана, выл и ревел, кидался и бился горным потоком, пропавшим на время в теснине обвала; иногда к стеклу прибивались утопшие в нем подгорные духи.
Я метнулся в сторону глянуть в Чуму.
Чума длинно сплюнул:
— Тяжелая баба…
Разогнувшись, Дуся тяжело прошел по вагону и лег на сидение. Он смотрел на женщину и почему-то чувствовал в ней свою разбухшую душу.
Боль схлынула, он чуть продохнул. Ему странно казалось, что душа его скорбно стоит над ним и, как мать, жалея, гладит теплой ладонью воздух над животом; бережно перебирает сплетения боли внутри и прочь вынимает камень. Дуся закрыл глаза, чтобы увидеть мать, но увидел внутри только желтую ветреную тьму, в которой, однако, было покойно и сонно.
Вдруг поезд сбросил скорость, и мертвая голова, полная грома и гула галопа, оторвалась от тела, колотившегося на бегу за кобыльим хвостом, и покатилась свободно по полю, глуша верчение о щелкающую стерню.
Застыла навзничь. Качнулась.
Обернувшийся лицом Старшого, всадник шагом вернулся.
Цепляя на пику кочан, вгляделся. Дуся не выдержал взгляд, распахнул глаза, сел. Поезд катил, затухая, по светлому павильону метростроевского моста мимо заброшенной станции «Воробьевы горы».
Хотя и не было здесь остановки, состав встал над Москвой-рекой.
Чума протяжно харкнул в конец вагона:
— Попали…
И тут мне приспичило оглядеться. Я рванул наружу и ввинтил семь витков вдоль метромоста.
Московская округа взмыла омутом и опрокинулась подо мною. Оправленная в дюраль капсула станции мерцала над рекой ночи слабым, дробным накалом, как неисправная неоновая вывеска. Поданным в ствол патроном поезд стоял в ее оболочке. Сзади белокаменной гроздью поднимались настороже башни и церкви Девичьего монастыря. Внизу по маслянистой темени реки шел теплоход, груженный воплями, шлягером, огнями мигающих танцев. Лапута громадного стадиона висела над темной массой парка, вращаясь горящими по периметру сторожевыми кострами.
За рекой и лесистым откосом, взмывая в прожекторах, целилась в Луну ракета высотного Университета.
У берега я заложил петлю, чиркнул по лыжному трамплину на склоне, дал «бочку» и стремглав прочертил обратно.
Верхнее веко Дуси еще не сомкнулось с нижним. Женщина, не просыпаясь, застонала. Поезд стоял. По необжитому после ремонта перрону сосредоточенно бежала дворняга. За ней иноходью гнался рослый кобель. Выпростанный из шкуры красный кусок, как припрятанная финка, был несом им под брюхом. За кобелем быстро-быстро семенил другой песик, вдвое меньше суки, но с той же целью: с той же алой ужимкой в паху.
Пропали. Женщина зашлась воем, будто кто-то в ее сне стал опускать гроб в могилу.
Она заполошно орала всем телом, хватала живот руками и, уминая, пыталась прижать к груди, не отдать.
Вой раздирал надвое ее круглый облик.
От испуга Чума подскочил и ударил ее по лицу.
— Заткнись, лярва, ногой ударю.
Как колокол в звоне, женщина раскачивалась среди густого воя на сиденье и вдруг стала мелко подрыгивать в пол раскинутыми ногами. Живот колыхнулся спазмом и пошел сдуваться волна за волною.
Тяжкие синие воды хлынули вместе с кровавыми водорослями под ноги Чумы, и он, повисев мгновение в немоте, искаженно зашелся струей блевоты.
Отброшенный залпом тошноты, он больше не мешал Дусе.
Размеренно поднявшись, Дуся опрокинул навзничь пьяную бабу и расправил под нею подол.
Схватки брали тело, как припадки землетрясения горную местность.
В сумерках близкого обморока Дуся нащупал ладонями тельце и, зажмурившись, потянул на себя.
Чуть погодя недоносок вывалился из нее, как колтун перекати-поля — из оврага к костру на стоянке, — и вспыхнул, ожегшись о воздух, гиблым смертельным криком.
Что делать с пуповиной, Дуся не знал.
Он поднял человека за ноги и потряс, как утопшего, на весу.
Остывшая было баба вдруг тряско забилась падучей дрожью и кротко затихла, открыв навсегда глаза.
Дуся положил на нее ребенка и вытер о платье руки.
Женщина лежала пронзительно зряче: убиенно раскинув члены, она падала вниз плашмя, увлекая с собой все, что видит — там, в пустоте.
Орущий с похмелья новорожденный ерзал по мертвой матери, держась пуповины, как привязи.
Женское лицо, немыслимо вспыхнувшее напоследок острой красотой — сквозь испитую маску жизни, шло на убыль, застывая в выражении безразличия.
Дуся двумя пальцами достал из носка «выкидуху».
Щелчок вставшего лезвия, цок лопнувшей кожи, свист о ребро, притоп рукоятки, достигшей упора.
Он обернулся к Чуме. Чума выворачивался в три погибели, хотя уже было нечем: хрипел и плевал, не во власти оправиться от впечатленья и вони.
Дуся метнулся к нему и хватанул его волосы в жмень. Чума заорал.
Дуся приплел его к роженице, как осла за узду — за патлы.
— На колени.
Чума тянул его руку двумя на себя, чтоб ослабить рвущее скальп движенье.
— На колени, — Дуся ткнул кулаком, обмотанным волосами, в потек на полу. Прядь лопнула, закурчавилась по запястью.
Чума вдарился лбом, заплевался кровавой слизью.
Дуся поднял его чумазое лицо над женщиной и ребенком.
Девочка уже не могла кричать. Морщась, она лежала ничком у матери на животе — над своей ямой — и неполно держала кулачком рукоятку ножа. Другой кулачок разжимался пульсом…
— Что видишь?
— Убита-а-а…
— Кто ее убил?
— Ты-ы…
— Я ее убил. Ты видел.
Дуся даванул его зубами в материнский подол:
— А теперь пой.
Чума плакал.
— Пой, сука.
Дуся сам встал на колени и негромко запел:
— Ма-ма, ма-ма, ма-ма… Поезд стоял. Помощник машиниста шаркнул по громкой связи: «Сейчас поедем». И, не вырубившись, крикнул комуто: «Сергеич, ну что там, скоро?»
Чума рванулся с колен, ревя: «Пусти!» — и стал биться всем телом в двери, пытаясь раздвинуть створки.
Я метнулся на платформу — глянуть.
Чума вбивался в дверь за дверью, крестом распластывая руки, ища створки послабже. Его разъятое ревом лицо, вминаясь и кусая, оставляло на стекле потеки…
По перрону наискосок в щель под колеса рванула по ниточке писка крыса.
Дуся пел. Затем встал, сдернул с руки часы и осторожно устроил на переносье трупа.
Упершись в проваленную грудь, вынул нож.
Обернул девчонку на спинку и покороче полоснул пуповину.
С ребенком в руках он подошел к оползшему на пол Чуме:
— Сымай майку. Обернутая тряпкой девочка дрожала, как вынутое сердце.
От страшного удара ногой стекло ослепло, будто первый лед от брошенного камня.
От второго удара оно прорвалось, как оберточный пергамент.
Машинист забирался с пути на платформу, подтягивая за собой расстегнутые брюки.
Еще не найдя пуговицей в хлястике дырку, услышал удары.
Двое выбрались из хвостового вагона. Голый спрыгнул на пути и бегом дернул к тоннелю. Другой, со свертком, стал подниматься по лестнице к запечатанному выходу с моста в эскалаторную галерею.
— Подонки, — сплюнул машинист и заскочил сообщать в кабину.
Рация никак не соединялась с дежуркой. Помощник сонно шарил по приборной консоли.
И тут в боковом зеркале за хвостовым вагоном треснул голубой костер: голый споткнулся в потемках о шпалу и нырнул руками вперед на контактный провод.
Бережно прижимая руки к груди, Дуся взбегал по заброшенной эскалаторной галерее над темной речной прорвой.
Прозрачная, кое-где повыбитая стеклянная темень огромно проницалась звездной округой ночной Москвы и от волнения, словно висячий мост, дышала воздушным обмороком падения под торопливыми ногами.
Взяв «ножницами» барьер турникетов, Дуся, оберегая грудь, потыкался коленом в ряд выходных дверей вестибюля и, смеясь, обнаружил одну открытой.
Над рекой, у трамплина, на смотровой площадке шелестела над крышей патрульной машины гирлянда огней. Два мента стояли у балюстрады. Держа скворчащие рации у ртов, они всматривались вниз по склону в рощицу, окружавшую выход из тоннеля.
Если бы щелчок ракетницы длинным фырком накинул на вершину воздушной горы пылающий зонтик, дрожащий купол света бесполезно бы выхватил короткой видимостью деревья, дорожки, массив парапета, полукружье речного блеска и белую черточку: человека, мчащегося по пересеченной местности вниз по склону.