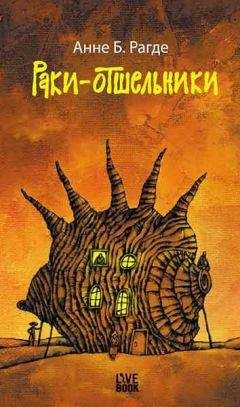Фру Габриэльсен раскладывала траурные ленты на букетах в высоких напольных вазах. Проход был полон венков, доходивших до самой середины часовни. Он долго стоял и рассматривал огромное сердце из роз перед самой кафедрой.
Он провел по волосам, проверил узел на галстуке. Он немного вспотел, пока возился с бельем и раскладушкой, но запаха не было. Взглянул на часы. Через двадцать минут зазвонят колокола.
— Мама, ты же это не всерьез? Ты только подумай! Мне тридцать семь лет. Не могу же я взять и перечеркнуть все, что я сделала за…
— Причем тут возраст? Чушь. Предоставь мне здоровый аргумент, что-то разумное!
— Я хочу… Что мне сказать? Хочу жить собственной жизнью!
— Она у тебя будет! Мы поделим этажи, и получатся две квартиры. Если одного этажа тебе для собственной жизни не достаточно, то и не знаю, что сказать. Делить будем только чердак и подвал, и, по-моему, не так-то трудно изредка встречаться на лестнице. Боже мой, Турюнн, у тебя крошечная квартирка в многоэтажке на окраине, а ты отказываешься от половины виллы в престижном районе! И при этом никаких расходов, кроме оплаты ремонта, от тебя не требуется.
— У меня появился мужчина. Может даже, из этого что-то выйдет.
Мать опустилась на диван и зарыдала с протяжными завываниями. Лак на ее ногтях потрескался и облупился, она сидела в одних колготках и коротком ярко-зеленом бархатном джемпере. Она собиралась на встречу с подругами, когда неожиданно появилась Турюнн, заехала из вежливости после работы, чтобы продемонстрировать добрую волю, что, мол, она может приехать и без жалобных звонков.
Она так хотела, чтобы жизнь вошла в колею, доказать матери, что та может быть частью ее привычных будней, и все равно все оборачивалось драмой. Вот и в этот раз: мать хотела представить ей чертежи за воскресным обедом, но не удержалась и показала их немедленно.
— Ты разве никуда не собираешься? Уже восемь часов.
— Мужчина, значит. И ты собираешься… это серьезно? Турюнн, это серьезно?
— Возможно.
— Но половина этого дома — сто двадцать квадратных метров. Разве этого недостаточно для мужчины? Любого мужчины?
— Не для любого.
— Да, ты права. Не для Гюннара, например, — согласилась мать и перестала плакать. Вместо этого она пристально посмотрела красными от слез глазами на Турюнн. — Значит, не хочешь?
— Мне кажется, нам обеим не стоит…
— Мы же мать и дочь? Что здесь плохого?
— Гюннар хочет продать дом. И мне кажется, ты все это затеяла, чтобы как-то…
И тут зазвонил мобильник. «Хороший, плохой, злой».
— Я выйду на лестницу, — сказала она и выбежала наружу.
— Да уж понятно, кто звонит! — крикнула Сисси ей в спину. — Сомневаюсь, чтобы ты так же лихо кидалась к телефону, когда звоню я!
Они договаривались, что она приедет в девяти. «Может быть, он хочет, чтобы я чего-нибудь купила по дороге», — успела она подумать прежде чем ответить на звонок.
— Привет! — весело сказала она. — Ты так по мне соскучился?
Он не ответил на эти слова, сказал только, что встретиться не получится, обстоятельства мешают, и голос у него был обеспокоенный и какой-то странный.
— Что мешает встретиться? Мне что, не приезжать? Мне ничего не мешает, кроме истеричной матери, — ответила она, сохраняя веселый тон.
У него гости, и все как-то сумбурно, ей лучше не приезжать.
— Что за гости?
По телефону сложно объяснять.
— Я могу приехать позже. Когда гости уедут. Это даже удобнее, тогда я успею постирать вещи и все такое.
Нет. Лучше увидеться завтра.
— Окей. Тебе не будет одиноко под одеялом? — сказала она, засмеялась и вдруг удивилась, откуда у нее взялись на это силы.
Он сказал, что позвонит, и повесил трубку.
Она глубоко вздохнула и заскользила взглядом по крышам окрестных вилл, блестящими хлопьями повалил снег. Она почувствовала, как у нее перехватывает дыхание, и вовсе не от начинающегося плача, от чего-то другого. Может быть, от страха.
В гостиной на диване сидела мама с рюмкой коньяка.
— Хочешь выпить, дружок?
— Я за рулем, ты же знаешь.
— Поезжай домой на такси. Я оплачу. Или, может, ты в другое место собралась?
— Может, и в другое.
Она сходила на кухню за минералкой.
Когда она вернулась, мать уже опустошила одну большую рюмку и наливала следующую.
— Ты что, хочешь напиться? Ты же куда-то собиралась? И потом, очень нелепо вальсировать тут в одних колготках.
— Пока ты говорила со своим любовником, я отказалась от встречи, — ответила мать и опустилась на темно-зеленый бархатный диван с персиково-черными подушками. Казалось, она выпала из пространства, худая, морщинистая, бледная. Колени под колготками напоминали маленькие сморщенные обезьяньи мордочки. Она начала стучать этими коленями друг о друга, снова и снова, спрятав руки между ног, и отвернулась, будто обиженный ребенок.
— Зачем, мама? У тебя милейшие подруги, а ты не хочешь с ними общаться?
— Я хочу общаться с дочерью, а вот она, очевидно, этого не хочет! — ответила Сисси и посмотрела Турюнн прямо в глаза.
— Я ведь заскочила на секунду! Или нет? — спросила она. — Ты так изменилась, раньше ты такой не была. Всегда очень независимая, все улаживала, и никогда у тебя не было времени, если я вас с Гюннаром куда-то звала.
— Вот именно! Нас с Гюннаром. А теперь осталась я одна, а это не так интересно.
— Мама…
— Ты часто с ним встречаешься? — спросила мать и посмотрела на Турюнн.
— С Гюннаром? Нет, совсем не встречаюсь…
— Ее зовут Мария. Я тут немного разузнала. У нее большой дом, в котором они живут. Ты там была?
— Нет!
— Не верю. А если бы Гюннар предложил тебе половину дома, спорю, что ты бы не сомневалась ни секунды.
— Пожалуй, я пойду. Если ты собираешься тут напиваться и вести себя по-свински. Раньше ты целый час могла с одной рюмкой коньяка просидеть.
— Тогда я сидела вместе с Гюннаром и коньяком.
— Я всегда считала тебя сильной женщиной, мама. А теперь ты просто… развалина какая-то.
— А кто виноват? Можно спросить?
— Я не вижу прямой вины Гюннара в том, что ты погрязла в жалости к самой себе.
— Так кто же меня пожалеет, если не я сама? Ты меня жалеешь? Гюннар меня жалеет?
— Мама… Я не понимаю. Ты что, хочешь, чтобы тебя жалели? Ты этого хочешь? Тебе не кажется, что это как-то… нездорово?
— Немного сочувствия еще никому не мешало.
— У тебя этого сочувствия — лопатой можно грести! Я тебе вот что скажу, если ты и с подругами так себя ведешь, ты их потеряешь! Всех, одну за другой. Хуже нытиков ничего не бывает. Никто не хочет общаться с нытиками!
— Уходи! Вон! Иди!
Мать нетвердыми шагами выбежала за ней в прихожую, пока Турюнн, стоя на одной ноге, застегивала молнию на сапоге.
— Турюнн! Не уходи!
— Мне пора.
— К этому мужчине?
— Может быть. А может, домой, звонить отцу. Он не ноет, только ругается, что намного лучше.
— Из-за своей ноги?
— Нет, не из-за ноги, а из-за того, что не может работать.
— Маменькин сынок…
— Уже нет. Она умерла, так ведь?
— Маменькин сынок на всю жизнь остается маменькиным сынком. Нога заживет. А вот мужья не отрастают заново.
— Ему по-любому несладко.
— Ты, никак, собираешься к нему поехать? — спросила Сисси.
— Я думаю об этом. Надо бы. Но я веду несколько курсов. Мне сейчас не вырваться.
Мать облокотилась на стену и вздохнула:
— Ты серьезно, Турюнн? Ты думала туда поехать? Ты же только что была там, на Рождество? И ты нужна мне здесь.
— Ему я нужна больше, чем тебе.
— Да что такое ты говоришь! — возмутилась мать, и в голосе ее прозвучали новые для Турюнн истерические нотки. — Это я, я тебя воспитывала! А он плюнул! Плюнул! И тут он возникает на пустом месте, когда тебе уже почти сорок и заманивает смертельно больной бабушкой, которую ты никогда не видела, и вдруг ты решаешь поехать в нему и заниматься этими свиньями, только потому, что он поранил ногу?! А я сижу тут и не знаю, что делать, когда вся жизнь пошла прахом! Ты что, не понимаешь, какую он причинил мне боль, и сколько я одна для тебя сделала? А? Ты сама-то понимаешь, что ты сейчас сказала?
— Поговорим завтра. Я позвоню, — ответила Турюнн и поспешила выйти. Даже со значительным количеством коньяка в крови мать понимала, что не может выскочить следом в одних колготках. В этом квартале было непозволительно демонстрировать общественности свои чувства. Мать осталась в дверях. Даже не помахала в ответ, когда Турюнн попрощалась с ней из машины. В машине Турюнн включила «R.E.M.» на полную громкость, так что колонки задребезжали. Она поехала, стуча ладонью по рулю. Позвонить, что ли, Гюннару и умолять его вернуться к матери, лишь бы ее саму оставили в покое? Если бы только можно было прямо сейчас отправиться к Кристеру и превратить ярость в плодотворную энергию. Броситься на него еще в прихожей и удивить. Какая-то машина прижалась вплотную, пытаясь проскользнуть в промежуток еле пригодный для трехколесного велосипеда, она отчаянно забибикала, гудела и гудела, пока та машина не снизила скорость и кто-то не пригрозил ей кулаком. Тогда она опомнилась, перестроилась в левый ряд и прибавила скорость, прочь от всех.