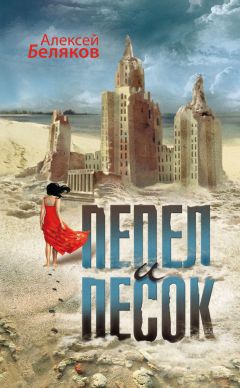АМИ Въебошилась все-таки! Никогда не умела тормозить.
Словно дождавшись этой реплики, старое зеркало осыпается крупными кусками — несколько мгновений спонтанной геометрии. Нам остается темная рама с резными листьями лавра. Ами разглядывает поверженные осколки у своих ног.
— Вы не поранились? — К Ами прыгает Требьенов с взволнованными тюльпанами в руках.
— Я? Нет. Но многие теперь исчезли безвозвратно.
— Кто?
— Те, кто отражался в этом зеркале. — Ами приподнимает платье и перекидывает сустав через голубую раму. В зале успевают заметить черные чулки на курьих ножках.
— Это мне цветы?
— Конечно, Амалия Альбертовна! Кому же еще?
— Спасибо. Ты знаешь, где вазы. Желтые тюльпаны очень идут к голубому велосипеду, не так ли?
— Да, очень! Но я не знал, что у вас есть велосипед.
— А он прятался в гардеробной за старыми платьями. Хитрец! Но теперь он не мой.
— А чей?
— Вот этого юноши. Я дарю ему за страданья сегодняшнего вечера. Этот велосипед мне Эренбург доставил из Берлина. О! Сколько страсти было в этом маленьком еврее. Чем меньше мужчина, тем больше страсти. Берите, юноша! Она его за муки полюбила и подарила свой велосипед. И вам с вашей хромотой на нем будет намного уютней. Простите, если я опять допустила бестактность. Только надо его как-нибудь назвать.
— Может, Бенкендорф? — говорю я. — Он же немец.
— А что? Отличное имя. И вы, мундиры голубые. Но длинное.
— Тогда назовите его Бенки, — Требьенов вздыхает и поднимает осколки с пола.
— Молодец, Сильвер! — Ами смеется, тронув рубин на броши. — Вам я за идею подарю… новую главу моих мемуаров.
— Лучше бы квартиру, — шепчет Сильвер, оставив на тяжелом осколке круглое пятно от своего жаркого дыхания.
Ами подводит ко мне Бенки, я беру его руль за наконечники из мягкой кожи. Бенки немного бодается, но уже смирился с новым хозяином, готов служить всей своей верною сталью.
— Ами, но как я поеду на нем сейчас, через сугробы?
— Сейчас и не надо. Заберете, когда захотите. Надо будет отметить это в завещании. А то помру, закопают вместе со мной. И зачем мне — скажите на милость — велосипед на том свете? «Здравствуй, Господи, подкачай мне колеса! Ну я поехала дальше, поищу друзей тут». Аон мне на это: «Ты что, старая, совсем уже? Написано же: въезд в рай на велосипедах воспрещен!» Хотя почему велосипеды не заслуживают рая? Уж поболе некоторых. А теперь, молодые люди, сыр! И пусть пропадет моя вставная челюсть. Сыр! Ну-ка, все хором!
ВСЕ
Сыыыыр!
Наши крики еще звучат, когда кадр и ИНТ сменяются. Просветляются.
Утром Катуар смотрит на вечное здание Университета. Прислушивается к эху от лихого вопля из прошлого и произносит:
— Да. Оно по-прежнему стоит. Извини, я ночью наговорила не то.
— Ты все правильно сказала, птица Катуар. Правильно.
— Как твоя голова?
— Прекрасно. Сделать тебе зеленый чай?
— Лучше я сама, ты опять все просыплешь. Я очень боюсь за тебя, поэтому и расплакалась.
— За меня?
— Еще за Лягарпа, Бенки и старую Брунгильду. За вас всех.
— Иди сюда, птица, не стой так далеко.
— Хочется курить.
— Кури, птица, кури! Делай, что хочешь. Давай я схожу за сигаретами. Хотя это очень страшно. Очень.
— Почему?
— Потому что эти пятнадцать минут я буду думать лишь о том, что вернусь, а тебя нет.
— А я не буду курить. Я же бросила и занимаюсь йогой. О чем ты будешь говорить на семинаре?
— Каком семинаре?
— На «Кадропонте».
— Черт, я и забыл о нем уже.
— Осталось два дня до отъезда.
— Давай не поедем. Ну их. Зачем они нам?
— Я никогда не была на море.
— Тогда полетим. Ты плавать совсем не умеешь?
— Нет.
— Значит, у меня будет семинар для тебя одной. Искусство плавания и песочного зодчества.
— Почему ты не раньше не ездил на «Кадропонт»? — она открывает окно и внимательно смотрит вниз, на крохотного дворника-таджика.
Я укрылся до подбородка желтым покрывалом: не надо видеть при утреннем солнце мое жалкое тельце.
— Я никуда не езжу. Был один раз в Каннах.
— Все считают это гордыней.
— Я знаю, пусть.
— Тебе не хочется славы, чтобы узнавали в электричках?
— Катуар, мне хочется только тебя.
— Серьезно, почему?
— Ты останешься здесь навсегда?
Катуар подходит к бюро, опускает ладонь в песок черной вазы:
— Как можно задавать такие вопросы девушке по имени Катуар?
— Останешься?
— А я знаю, почему ты не ходишь по красным дорожкам.
— Почему?
— Ты боишься.
— Покушения? Мести придурков из «Союза Б»?
— Нет, бычок-песочник. Ты боишься сам себя. Своей хромоты, роста, некрасивого лица.
Дозволю ворваться флешбэку. Ярославна из Канна, вперед!
Столик на Лазурном берегу, начало сценария. Ярославна поднимается, ветер вздымает ее белую юбку, обеими руками она усмиряет порыв и заканчивает губительную фразу:
— Тебе вообще нельзя появляться на красной дорожке. Все смеяться будут. Сиди тут и пей пиво. И наслаждайся своим сраным арт-хаусом.
Стоп. Снято. Все утопить.
— Катуар, почему я слушаю то, что ты говоришь? Ты же обижаешь меня… Но мне не обидно. Как назло…
— Потому что это говорю я. И на велосипеде ты ездишь потому, что тогда не так заметен твой рост и совсем не видна хромота. Так?
Она отпускает на волю горсть песка из черной мраморной вазы. Садится на тахту, подогнув глубоко одну ногу под себя. Чуть покачивается на ней.
— Так, Катуар. Ты же все знаешь. Все. Даже страшно.
— И женщин у тебя не было никаких, если не считать жены Хташи, так?
— Да и ее можно не считать. Но откуда ты все это знаешь? Желтой прессе моя жизнь совсем неинтересна, а кто еще мог рассказать?
— А откуда я знала, что Божена с кладбища была портнихой, а Амалию Альбертовну звали Ами?
— Откуда? — Приподнимаюсь, но Катуар легко толкает мое плечо и я снова повержен. — Откуда? Я давно хочу все это понять!
В мрачной ванной звонит мой телефон. (Да, Бенки, телефоны всегда звонят вот так, на краю обрыва. Такая у них привычка.)
— Я принесу, не вставай, — улыбается Катуар. — Тебе нужны силы.
— Не надо, пес с ним.
— А вдруг что-то с дочкой стряслось, ты не думаешь об этом?
Она включает свет в ванной и, голая, делает несколько рыбьих пируэтов. Ныряет, достает телефон из моих коротких штанишек, что свернулись на полу, возвращается на цыпочках, отдает мне добычу.
— Блин, это Йорген. — Я отворачиваюсь от телефона. — Бесит, бесит.
— Возьми трубку и все!
— Алло… Привет… Да, сплю… То есть не сплю… Ладно, все хорошо… То есть не просто хорошо, а… Сценарий? Нет, не пишу… А так. И не буду писать. Тебе привет от Катуар. Я нашел ее. Вдруг… Именно вдруг… Нет, не буду… Трезвый, да. И наконец, счастливый… Нет, я не Марк. Не Марк! У меня есть свое имя наконец.
Квартира Ами.
Трехкомнатная гавань с видом на Москва-реку, ставшая четырнадцать лет назад моим убежищем от мымры Хташи и ее уроков хороших манер.
Ами раскладывает пасьянс истлевшими картами на синей бархатной скатерти.
— Послушайте, юноша, если вы так любите кино, я должна познакомить вас с одним своим приятелем. Он священник.
— А я не…
— Неверующий? Это неважно. Отец Синефил причастит каждого, кто любит кино. У него просто божественный архив. Что в наше бандитское время вы увидите в кинотеатрах?
— Можно смотреть на кассетах.
— Можно. Но отец Синефил еще и читает проповеди — о режиссерах, актерах, киноискусстве. Только сыр к нему нельзя приносить, потерпите?
— Да.
— Опять не сошлось! — Ами спресовывает карты сухими пальцами и бросает колоду в черную вазу. — И еще вам надо избрать новое имя, не мирское.
— Зачем, Амалия Альбертовна?
— Ами! Просто Ами. Сколько можно повторять? Теперь о вашем имени. Оно никуда не годится для сценариста. Что такое Александр Романов? Это все равно, что Сергей Иванов, Алексей Павлов, Дмитрий Борисов. Никто и слушать не станет человека с таким именем! А кто пойдет на фильм по сценарию Александра Романова? Если кто и пойдет спьяну, то покинет зал сразу после титров. Давайте назовем вас иначе.
— Как?
— Я должна это придумывать? Может быть, вы предложите мне еще писать за вас сценарии?
— Однажды мне привиделось одно странное имя.
— Отлично! Видениям, как и картам, надо доверять. А какое?
— Оно странное.
— Как славно! Так скажите! — Ами тревожно прислушивается к скрипу паркета этажом выше. — Еб твою мать, вспомнила! Я не поставила чайник. Придется опять пить водку. За ваше новое имя. Вы сходите в магазин?
— Заметьте, не я это предложил!
Мартовским утром я просыпаюсь на недосягаемой высоте, в бастионе высотного здания Университета. Сюда не долетит унылый мяч Буха, не донесется тухлый запах Азова, здесь я в полном покое. Хташа исчезла из-под пышного одеяла, и я могу беспечно разглядывать книжные полки, лиственную лепнину по периметру потолка, люстру с хрустальными подвесками, пожелтевшие бюсты Геродота и Тацита (под их кадыками прикреплены таблички для малограмотных). Скоро кончится зима, и Хташа возьмет меня зубами и понесет в ЗАГС. Я буду болтать ручками-ножками, не сопротивляясь. Хочется в туалет. Тернистая Хташа доставила много мучений мне этой ночью, но в темноте так легко оказалось представить Румину верхом и сзади, что я сам подивился дерзости своих сюжетных ходов и монологов. Моя левая берцовая кость оказалась крепкой, надежной. А теперь в туалет. Хташа наверно на кухне, делает завтрак усталому жениху. Вряд ли ради таких счастливых мгновений она призвала покорную Розу. А если Хташа захочет еще? Придется закрыться в кладовке, среди маминых шуб, чтоб был мрак, пропахший лавандой. А без мрака Марк пропадет. Но пора в туалет. Где мои тапки?