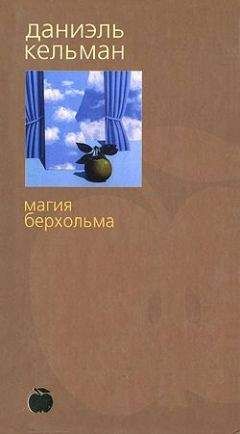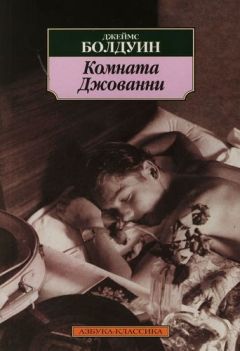Я подавил зевок и ощупью нашел очередной бокал. На полу, под множеством лакированных ботинок и туфель, извивался замысловатый узор. Персидский, ручной работы ковер, вероятно сотканный полуслепыми детьми. Я поднял глаза, надо мной сияла хрустальная люстра. Я прищурился, и она расплылась нечетким золотистым пятном.
– Было неплохо, Бэрррхольм! Да, совсем неплохо!
Я испугался и потер глаза. Передо мной стоял Хосе Альварес.
– Вы были еще лучше, – сказал я нерешительно.
Два часа назад мы едва успели поздороваться, но не обменялись и несколькими словами. Его программа оказалась действительно незаурядной. Он выступал следующим номером после меня, его заковали в цепи и положили в гроб с прочными стенками, который общими усилиями заколотили гвоздями. Каждому гостю было предложено забить гвоздь, желающие (и такие в самом деле нашлись) могли забить несколько. А потом, через несколько секунд, крышка гроба слетела, гвозди выпали и из гроба поднялся Альварес, освободившийся от оков, с несколько скучающим выражением лица и дымящейся сигарой в зубах. Сейчас, вблизи, он казался ниже ростом и тоньше.
– Вы говорите на моем языке? – удивился я.
– Пррриходится, Бэрррхольм. Из-за специальной литературы. На всех основных языках. Всё должен прррочесть, что печатают о замках. Много написано. – Внезапно он сощурился, так что на щеках пролегли морщины и обнажились стиснутые зубы.
Я с тревогой посмотрел на него; может быть, ему стало плохо? Через минуту он снова сощурился, и тогда я понял: это была нервная судорога, тик. Теперь я заметил, что он непрерывно проводит правой рукой по левой, точно пересчитывая пальцы.
– Хотите сигарету? – спросил я и протянул ему пачку.
– Спасибо. Не курррю. Только на выступлениях, вообще нет. Не могу этого себе позволить. Должен быть в форррме, соблюдать рррежим. И не пью. Позавчеррра меня подвесили на небоскррребе, с кандалами на ногах. В смирррительной рррубашке. Вы знаете, Бэрррхольм, что со мной случится, если я не быть в форррме?
– Думаю, могу это вообразить, – сказал я, поискал зажигалку и закурил сигарету. Кажется, где-то тут был еще один бокал… да, вот он. – Я восхищаюсь вами, – сказал я, – уже давно. Знаете, ваше изящество и легкость, просто неподра…
– Легкость! – Он издал гиппопотамовый звук, долженствующий изображать сопение. – Это не легко, черррт возьми! Клаустрррофобия в пррроклятом ящике, воздуха нет. Чаще всего еще бррросают в воду. Рррано или поздно какой-нибудь сукин сын слесарррь поставит замок, которррый я не смогу открррыть. – Он посмотрел на меня. – Тогда, Бэрррхольм, мне конец.
– Берхольм, – поправил его я. – С долгим «е», с одним «р». Никогда не говорите о конце.
– Почему нет? Я смотрррю на это трррезво. Не может всегда везти. Ррраныие только связывали, ничего опасного, но теперррь зррители хотят большего. Насмотрррелисссь тррриллеррров. Опозоррриться или умеррреть, выборрра нет. Наверррное, пррридется умеррреть. В кандалах, закованный идиотами, которррые за это платят.
– Тогда почему вы не бросите все это?
– Бррросить? Но как? Я больше ничего не умею.
– Вы могли бы, – предложил я, – стать слесарем…
Он мигнул и свирепо уставился на меня:
– Слесарррем!.. Послушайте, я Хосе Альваррррес!.. Слесарррем!..
– Извините! – пропищал у меня над ухом тоненький голосок. – Вы не могли бы дать мне автограф? – Девочка-подросток, не очень хорошенькая, но изысканно одетая, протягивала мне блокнот.
Я взял его и расписался большими круглыми буквами: «Альварес». Потом я передал его Хосе; он нацарапал ниже мелкое, почти не читаемое «Берхольм» и вернул малютке блокнот. Она пробормотала «спасибо» и упорхнула.
– Слушайте, а как вам вообще пришло это в голову? – спросил я. – То есть почему именно освобождение от оков?
– Было вррремя, мне отовсссюду нррравилось выбиррраться. Давно прррошло. Крррасивая женщина, Бэрррхольм! Ваша спутница? – Он кивнул в твою сторону; ты стояла на другом конце комнаты, прислонившись к стене, в слишком пестром платье в цветочек, увлеченная беседой с двумя бледными молодыми дамами, которых я не знал, да и ты, по-моему, тоже.
– Да, – сказал я, – пожалуй, так. Берхольм, с долгим «е». – И все-таки где-то внутри меня поднялась тяжелая, увенчанная пеной волна гордости.
Альварес одновременно мигнул и зевнул, отчего мне стало не по себе.
– Ну что ж! Я, пожалуй, пойду. Ссспать. Важно…
– Соблюдать режим?
Он недоверчиво посмотрел на меня, кивнул и протянул мне маленькую, с крупными костяшками руку.
– До свидания, Бэрррхольм. Интеррресно было с вами побеседовать. Не знаю, почему все говорррят, вы сумасшедший. Я не заметил.
– Рад был с вами познакомиться, – сказал я несколько неловко; мы пожали друг другу руки, он, шаркая, побрел к выходу и исчез.
Я нащупал еще один, последний бокал. Я ощущал легкий озноб и небольшое, почти приятное головокружение – как будто по моим нервам провели шелковым платком.
Хозяйка дома (А точно ли она? Ну да, а может быть, нет; все они были так похожи друг на друга) подошла ко мне, а с нею седовласый господин с удивленно поднятыми бровями и с лихорадочно поблёскивающей булавкой в галстуке.
«Позвольте представить вам…» – она его представила. Его имя показалось мне знакомым; оно прозвучало эхом экономических новостей или чего-то подобного, скучного. За спиной у меня внезапно оказался мраморный столик; я вцепился в него. Прохладный и твердый на ощупь, но это была иллюзия. Столик испуганно отпрянул.
Седовласый господин произнес что-то о том, как он рад с кем-то познакомиться. Я раздраженно его рассматривал; меня бесила булавка в его галстуке. Ни одного бокала больше не осталось? Ни одного бокала больше не осталось. Было жарко. Да, о чем он там говорит?
– …мне что-нибудь показать? Какой-нибудь фокус? Пожалуйста! – Он облизнулся, предвкушая любопытное зрелище.
Боже мой, он что, шутит? Да что он себе позволяет!.. Я собирался было негодующе покачать головой и сказать ему резкость…
И тут что-то произошло. Я не понял что. Неожиданно я ощутил своеобразную уверенность. Как будто…
– Загадайте число! – сказал я. – Любое.
Он возвел глаза к потолку, наморщил лоб, постарался и в самом деле завершил эту трудную операцию.
– Да, – сказал он, – загадал.
– Двадцать восемь, – сказал я.
Он отшатнулся, у него отвисла челюсть.
– Боже мой, – прошептал он, – как вы это?…
– Повторим? – предложил я. – Еще одно число, пожалуйста!
Он кивнул.
– Двести четырнадцать. Еще одно? Он смотрел на меня, тяжело дыша.
– Нет, – наконец выдавил из себя он, – нет, спасибо. Это… Это… – Он молча повернулся и, держась преувеличенно прямо, ушел мелкими шажками.
– Это было чудесно! – улыбнулась хозяйка дома. – Как вы это сделали?
Я посмотрел на нее. «Поднимите руку, – мысленно приказал я, – и проведите ею по волосам. И уроните бокал».
– В самом деле великолепно, – сказала она и провела рукой по волосам. – Знаете, моему племяннику недавно подарили волшебный ящик. Ему только что исполнилось двенадцать. О, какая я неловкая! – Она стояла передо мной, поправляя рассыпавшуюся прическу, и смущенно разглядывала осколки на полу и лужицу шампанского, растекающуюся по ковру и медленно впитывающуюся. – Ничего, я прикажу отчистить. Все отчистить. Так вот, мой племянник…
Тощий человек с родимым пятном, все такой же важный и серьезный, прошел к столу с закусками. Я задумчиво проводил его взглядом.
– …Но у него возникли сложности с волшебным ящиком. Представьте себе, например, он говорит…
Вскрикнула какая-то женщина, раздались чьи-то возгласы. Все куда-то бросились и над чем-то склонились. Человек с родимым пятном встал с пола, потирая спину. Он был немного бледен. «Ничего страшного, – повторял он, – ничего страшного»…
– …а потом он показал нам прелестный маленький трюк. Вы знаете, у него это действительно хорошо получается…
– Извините, пожалуйста! – сказал я и вышел. Я чувствовал на себе ее ошарашенный взгляд, но мне это было безразлично. Я спустился по лестнице, прошел по отделанной мрамором передней, открыл дверь и оказался на улице. Я не забрал дорогое пальто из верблюжьей шерсти – оно осталось в гардеробе – и тебя. Ты ужасно обиделась на меня тогда, и я это заслужил. Просто так уйти, бросив тебя, было очень невежливо, правда? Но как я мог тебе все это объяснить? Ты бы мне поверила? Да, может быть. Но в сущности, извини, даже ты в тот момент была мне безразлична.
На улице было темно и прохладно. Наверное, прошел дождь, потому что земля под ногами была влажной, а фонари, мерцая, отражались в лужах. Небо было затянуто черными облаками; я бы хотел посмотреть на луну, меня бы это успокоило, – но луны не было. Я чувствовал, как у меня дрожат руки, лихорадочно и громко стучит сердце. Я сунул руки в карманы и пошел неизвестно куда. А что это собственно за город? Да какая разница. Тот, кто слишком много путешествует, теряет представление о том, где находится. К тому же все они похожи друг на друга.