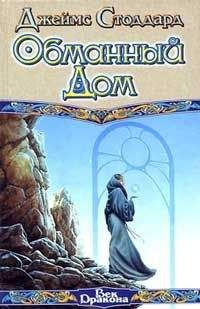И в конце концов, все легли спать в разных комнатах, а утром надо было уезжать, и мы втроем пошли на автобус. Костик надел кожаное, «комиссарское» пальто своего дедушки. Взял фотоаппарат и то и дело мимоходом фотографировал то кисть рябины, то поворот шоссе за мостом, то речку.
Когда подошел автобус, я пропустил Аню вперед и сказал, что позвоню ей, она уехала, и мы с Костиком остались на остановке и молча перешли шоссе и пошли обратно по пустой дороге. Я хотел сказать ему… Поговорить с ним… Что сказать? «Так нечестно»? Или: «А как же я?» Мы шли и молчали, а приближаясь к мосту, Костик сказал:
— Ну что, Командир? Давай, что ли, стреляться?
И свернул в лес, поминутно щелкая фотоаппаратом.
— Становись, Командир, под дерево. Вот.
И он стал «прицеливаться» своим «Ломо».
— Ты на ней женишься? — спросил я.
Потому что на ней надо жениться, она хорошая и серьезная, она всю картошку ухаживала за мной, потому что я, пень, все время болел то животом, то простудой, а еще Командир называется, позор вообще, и она меня лечила и выручала, прикрывала, как могла, я бы совсем без нее пропал, без своего Комиссара, она хорошая, и у нее смешной нос валенком, и светлые волосы пахнут какими-то маленькими птичками, правда, я понятия не имею, как пахнут птички, но точно знаю, что как светлые волосы Комиссара.
— Женишься ты на ней или нет?!
Костик щелкал фотоаппаратом, пятясь от меня все дальше, в глубь леса.
Тогда я крикнул:
— Ты как вообще жить дальше собираешься?
Потому что я уже знал про его похождения. И Зоя Константиновна просила меня с ним поговорить.
Он отошел еще подальше, повернулся и пошел прочь.
А я домой уехал…
Давно так все это…»
— Батюшка, а батюшка… А ничего, если я святой воды в банку из-под компота налью?
— Что? А… Да, можно…
— Батюшка, а в двенадцать машина за вами придет, в управу надо, главу администрации с Днем ангела поздравлять…
— Да… Ну да… Конечно…
Чай с антоновкой остыл, сделан медленный, большой круг по академическому поселку, и я осторожно захожу в лес, там гораздо темнее, и слышно, как журчит в овраге ручей…
Костик идет мне навстречу.
— Ну-ка сними меня, — не здороваясь, просит он и садится на поваленный еловый ствол у края оврага. — Смотри, сюда смотришь, тут нажимаешь. Смотри не напорти, сиротка.
— Зачем тебе?
— На память, — говорит он. — Каюк скоро лесу. Под дачи скупят. Снимай, что ли?
— Под какие дачи? Что ты вечно?.. Дачи какие-то выдумал. Это наш лес! Кто его купит?
Костик усмехнулся и сказал, глядя в объектив:
— Вот гостей проводил.
И добавил:
— Мне весело…
И еще раз повторил:
— Мне весело, понимаешь, Сирота…
«И Сирота отдала мне фотоаппарат и пошла своей дорогой, а я домой пошел. Надо было рассказать ей про дедушку, что он мне сказал, перед тем, как умереть, но я подумал об этом уже потом, когда дошел почти до своей калитки, до колонки, и пил ледяную шумную воду, наклонившись…»
Ни о какой утрате леса тогда никто и подумать не мог. Какая-то возня с вырубкой деревьев началась только в начале девяностых, Маша Тендрякова под руководством Эльдара Рязанова бросалась под трактора…
А еще лет через пять мы окончательно утратили лес. Он стал бывшим.
Но откуда Число это знал? Как догадался?
Тридцатая школа, наше родное красно-кирпичное гестапо, сгорела весной, когда мы были классе в восьмом или девятом.
Утром позвонила Аня Мазурова:
— Ты чего не в школе?
— Так алгебра же, что сидеть, все равно ничего не понимаю. На историю пойду.
— Можешь, впрочем, не торопиться. Школа сгорела.
— Ань…
— Приходи посмотреть. Все правое крыло. Подчистую.
Смотреть я не пошла. Говорят, зрелище было сильное. Я опасалась, что нервы не выдержат и я начну плясать и прыгать от счастья на пепелище, что было бы нечестно по отношению к директору, милейшему Джону Николаевичу Родионову, который, под воздействием стресса читал собравшимся на пепелище стихи собственного сочинения, посвященные своей маме.
Школу подожгли три девочки — Кузнецова, Скрябина и Васильева. Сначала они хотели сжечь только учительскую, где хранились журналы с оценками, а потом вошли во вкус.
— Мы подожгли дверь учительской, поднялись на этажи и стали бить окна, чтобы тяга получше была… — сделала «чистосердечное признание» Лена Кузнецова, старшая из поджигательниц.
На вопрос, почему не взяли в сообщники никаких особ мужского пола, Лена ответила четко:
— Пацаны только всем растрепят, а сами забоятся.
Благородный Джон Николаевич хлопотал, чтобы дело замяли и ее не отправляли ни в какое там спец-ПТУ. Родители Лены, шишки по торговой части, определили ее в техникум книжной торговли. Наверное, и техникум этот недолго простоял, «занялся зоренькой», потому что учеба, книги, любое печатное слово были этой волоокой коровообразной девушке категорически противопоказаны.
А пятиклашек Скрябину и Васильеву, очень хорошеньких, этаких ангелочков, вообще никто пальцем не тронул. Они спокойно закончили восемь классов и только потом отправились в ПТУ, приобретать какие-то доходчивые, нужные людям профессии. Это опять все Джон Николаевич:
— Мы их такими вырастили, нам с ними и заниматься.
Слух о сгоревшей школе пошел по всей Москве.
— Правда, что ваша тридцатая школа сгорела? — спрашивали меня еще несколько лет спустя.
— Подчистую! — отвечала я. — Все правое крыло!
И с удовольствием называла фамилии героинь, гордясь, что именно в нашей школе нашлись такие люди.
О, славные и храбрые Кузнецова, Скрябина и Васильева! Хвала вам, девочки! Другие только грозятся, а вы — сделали!
Директор Джон Николаевич был отличный.
Однажды он специально вызвал мою маму на разговор. Предварительно мне попало — мама сразу начала как следует волноваться и долго допытывалась, что я такого отчебучила, наверняка участвую в подпольном журнале или пришел сигнал из милиции, что я хожу с волосатыми хиппи…
А Джон Николаевич сорок минут ей втолковывал, что я удивительная и необыкновенная, каких мало, и что со мной надо бережно обращаться.
От этого мама еще сильней рассердилась. Ведь удивительной и необыкновенной могла быть только она. Ну, в крайнем случае мой брат. Но чтобы я?!.
— Это ты, значит, какая-то особенная? — подозрительно посматривала она на меня.
Когда я стала сочинять и рассказывать по радио детские рассказы, в том числе и про школу, Джон Николаевич позвонил мне:
— Здравствуйте, Ксения, это ваш персонаж говорит.
Действительно, персонаж! Такого нарочно не придумаешь. Директору положено приходить к восьми утра, открывать школу, следить, как начинаются занятия, а потом, если нет его уроков, сидеть в кабинете, заниматься делами.
Джон же Николаевич честно приходил в восемь, открывал школу, с трудом дожидался девяти и спокойно удалялся в ближайший кинотеатр «Мир», дремать на ранних сеансах.
На замечание, высказанное ему кем-то из коллег, ответил резонно:
— Что я вам здесь буду, за двести рублей пердеть в трубу?
Ну, как не любить такого человека?!
Джону Николаевичу было трудно в женском коллективе. Просто невыносимо. Иначе чем объяснить, что в школу стали стекаться педагоги-мужчины? У нас было какое-то неслыханное, рекордное количество учителей-мужчин. Петр Семенович преподавал литературу в пятых — седьмых классах.
— Так, почему сидим, не работаем на уроке? Ну, давайте еще все штаны снимем и будем друг на друга смотреть…
И другие «остроумные шутки» для малышей.
Хорош был и биолог Валерий Евгеньевич, падавший в обморок от вида крови.
Анонимки шли косяком.
В конце концов Джона Николаевича «слопали», и он пошел служить на фабрику мягкой игрушки.
Тоже — нарочно не придумаешь такое назначение.
Пока Джон Николаевич преподавал у нас физику, все у меня шло гладко, он просто так ставил мне пятерки, за малейший невнятный «вяк», очевидно, из сочувствия к моей хваленой «необыкновенности и удивительности».
Физика же, как и все другие науки с циферками, буковками и стрелочками, была для меня не просто темным лесом, а какими-то кромешными страшными джунглями.
А физики и алгебры в старших классах было так много, что меня иной раз отчаяние охватывало.
Маша Залыгина, моя подруга, внучка писателя-эколога Сергея Павловича Залыгина, посоветовала вообще бросить школу — для будущего писателя это очень полезно:
— Вот в Ленинграде один парень вообще все бросил, не учился и не работал, а только писал стихи. Мне дедушка сейчас из-за границы его книжку привез — стихи просто гениальные! Его тут у нас никто не знает. Бродский фамилия…