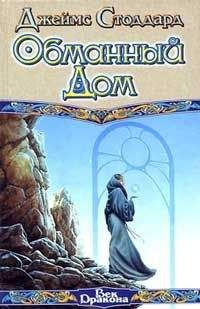А все детство и юность в Москве ломали старые дома, бульдозерами с чугунным шаром на тросе. Шар назывался бабкой. Она так раскачивалась, раскачивалась, как-то неуклюже, даже нерешительно, и била в стену, выбивая из старенького домика пыль, словно из какой-то гардины… Пыль от штукатурки, как туман, и из этого тумана — искалеченный домик, раскуроченной комнатой наружу, выгоревшие обои, след умывальника…
Помню, помню…
Нет, я «давняя»…
На Арбате был кинотеатр «Наука и знание». Каждый день в пятнадцать сорок давали сеанс документального фильма Михаила Ромма «И все-таки я верю…». Эта замечательная картина о двадцатом веке, целиком сделанная из хроники. В частности, там очень живописно выглядят настоящие европейские хиппи, поющие «Харе Кришну». И вот наши московские хиппи ходили на этот сеанс, любоваться на своих «забугорных» собратьев.
Потом этот фильм перестали показывать.
«Пленка стерлась», — объяснила Катя Светлова.
Кинотеатр «Наука и знание» закрыли. Арбат реконструировали. Грянула перестройка, началась новая эпоха. Именно потому, что стерлась пленка с фильмом «И все-таки я верю…».
Коммуналка на доперестроечном Арбате.
На кухне звонко капает вода из крана, но воды нет, отключили без предупреждения. Чайник наполнить может только человек монументальной терпеливости — поставить в раковину и ждать, пока накапает.
Большая темная комната с огромным, во всю стену, окном. Окно чем-то намертво заслонено снаружи. Ну да, плакат! На подоконнике всякий хлам и много-много бумажных самолетиков.
По стенам — старые черные чугунные сковородки с наклеенными на дно аккуратно вырезанными репродукциями шедевров мировой живописи.
Голая лампочка под потолком, она то и дело мигает, и тогда мой знакомый Саня, студент, он-то и пригласил меня на вечеринку, говорит:
— Наши взяли электростанцию.
Работает катушечный магнитофон, без крышки корпуса, и видны его хлипкие железные внутренности. Уникальный магнитофон, не способный работать без кусочка простого ластика, который надо куда-то воткнуть, чтобы что-то к чему-то прижалось и все звучало.
Саня в этой коммуналке снимает комнату, в складчину со своим однокурсником, тоже Саней (хроническое имя), по прозвищу Гном, но не эту комнату, а другую, а здесь живет абориген Миша, лет двадцати, он сидит в кресле у рояля с захламленной всяким старьем крышкой, но не перед клавиатурой, а с другой стороны.
Эта комната с окном, но без света — приют, кров, «флэт», пристанище, здесь все живут, едят, пьют, ночуют, целуются, музицируют, готовятся к экзаменам.
Является второй Саня и говорит своему другу виновато:
— Сань, у меня тройбан по французскому…
— А в лобешник? — прищуривается первый Саня. Он уже порядком назюзюкался сухого. — Без стипендии нас оставил, упырь!
Читаем стихи, пьем кислое вино и говорим о том, что будет дальше. Начало весны восемьдесят третьего, Андропов у руля!
Сане приходит светлая идея пойти к американскому послу, водички для чая попросить.
— Я из кухни в окно видел, у посла камин топят… Пойду вот и попрошу воды, что, не даст? Он же должен дипломатические отношения с нашим народом поддерживать, ему за это деньги платят…
Трепетно прощаемся с Саней, некоторые планируют встретиться с ним через несколько лет после похода к американскому послу за водичкой. Кто-то советует уже сегодня же слушать новости по «голосам».
А этот псих берет чайник и преспокойно валит!
Приходит Костик Чеславин. Вот так встреча! Друг и дразнитель моего детства. У него длинные волосы, подобие бороды и разрисованные драные джинсы. Не диво, что недавно забрали в милицию и сильно избили.
— И правильно! Нечего ходить как чучело, — оценила любящая мама, навещая его в больнице.
— Работаю тестером ксенофобии, — улыбается он. Сбоку зуба не хватает, вот ужас…
Курит одну за одной, беломорины. Из универа ушел в академку. Работает дворником. Жена Аня учится в институте. Живут рядом, через переулок.
Дальше читаем стихи.
Число и другой парень, полный и бледный Сева, все время спорят, даже ругаются, из-за стихов.
— Такие, как вы, примазываются к любому движению, чтобы немедленно опошлить его одним своим видом! И исправить вас, перевоспитать невозможно. Поэтому вас надо только уничтожать!
— А такие, как вы, выдумывают свои идеи только затем, чтобы тут же их продать, предать, просочиться в официальную культуру хотя бы на правах альтернативы… Вот и Иван Жданов, на радость мракобесам, начал писать гладкие стишки…
— Да? А Заболоцкий? Он тоже писал силлаботонические стихи, просто для того, чтобы его снова не отправили в тюрьму и не били сапогами по почкам… Что ж, обвинять его теперь за это?
— Ты хочешь сказать, что всем надо готовиться к очередной порции репрессий?
— А ты что, не хочешь этого сказать? Ты видишь, кто руководит страной? «Превратим восемьдесят третий год в тридцать восьмой…»
И дальше все в таком же духе, со словами «парадигма» и «дендрологический код».
— Надо, чтобы стихи печатали, — говорит прилежная девушка с косой, провинциального вида. — Чтобы все стихи можно было напечатать. Прочитать. Чтобы обсуждать можно было не по квартирам. И не друг другу читать, а ценителям поэзии, вот…
— Ага, жди, — огрызается Число. — Выйди вот на Красную площадь и читай. Тут же ценители набегут. В штатском…
— Да погодите вы, — мирно говорит Миша. Он единственный совершенно трезвый. — Будет вам все.
И стихи любые напечатают, и концерты, и картинки, и музыку играй какую хочешь…
Никто не верит.
— Я вот хочу на Пасху всю ночь ходить по Москве, из храма в храм, — говорю я, меня «заедает», что недавно не пустили на Пасху в храм, коодовцы стояли, пропускали старушек, а молодежь нет. — Но этого никогда не будет. Вот этого уже точно не будет никогда-никогда.
— Да будет, будет… — улыбаясь, говорит Миша, крутя в руках бумажки, непрерывно складывая самолетики. — Такое будет, чего мы даже себе вообразить сейчас не можем…
Вот так оптимист! Значит, он и на окно тоже надеется, что вот в один прекрасный день плакат отдерут, и он выпустит весь свой бумажно-воздушный флот в освобожденное окошко…
Является в дугу пьяный Саня с чайником, полным воды.
— Посла нету дома, — сквозь гомон объявляет он. — Посол уехал в Загорск, на богомолье… Зато там мент один в будке, Валера, во такой парень, из-под Таганрога… А на Николопесковском трубу прорвало, воды — залейся…
— Ну, ставь чайник, — велит Миша.
— Душно как, — говорит кто-то. — Как вы тут, без окна…
— Вот не надо этих намеков! — громко возмущается Число. — На нашем торце висит плакат! И мы гордимся этим! Это большая честь для нашего «флэта»! И никакие там эти ваши окошки и свежий воздух нам просто ни к чему! Правда, Миша?
Миша кротко улыбается.
Пора домой.
Уходя, замечаю, что рядом с Мишиным стулом — костыль, и одной ноги у него нет, до самого бедра.
Самолетики…
Беру зачем-то один с собой.
Саня провожает меня до Садового, на троллейбус.
И из этого оттаивающего города, где на бульварах деревья стоят по колено в воде, но у деревьев не бывает колен, и вода доходит им до той высоты ствола, где у человека обычно колено, — переулками, проходными дворами, там спят усыпанные многими поколениями тополиных листьев старые автомобили, арками и подворотнями, к метро, на станцию «Ботанический сад», травяным берегом Яузы я попадаю в первое сентября этого же года, в актовый зал Института кинематографии, на вручение студенческих билетов…
На последнем из творческих экзаменов, собеседовании, сидел Евгений Иосифович Габрилович. Увидев мою фамилию и отчество на экзаменационном листке, он перво-наперво спросил:
— Ну, как там ваша дача? Я ведь тоже этот дом купить хотел, но ваш папа задаток быстрее привез.
И собеседование пошло как-то душевно, едва ли не по-соседски.
(Целую Вас, критик по имени Андрей, любитель творческих династий!)
Мы обожали Евгения Иосифовича! В последнее время он уже совсем плохо видел, и работы надо было читать ему вслух, приезжая в Дом ветеранов кино в Матвеевское.
— Что, деточки, — ласково говорил он, — не знаете, как разговорчик между персонажами поестественней завести? Посадите их поудобней, дайте в руки жареную курочку…
Может, именно согласно этому совету у меня в пьесах герои постоянно жрут и пьют.
Мы с Катей Светловой поступили в институт лучше всех, набрали максимальные баллы. Чудной институт — там встречаешь тех, с кем обучался в детском саду, бывших узников литфондовского детского сада. (Опять целую Вас, мосье Андрей-фамилии не помню, «губами в лицо» Вас целую!!! Чмок-чмок. Мпыц-мпыц.)