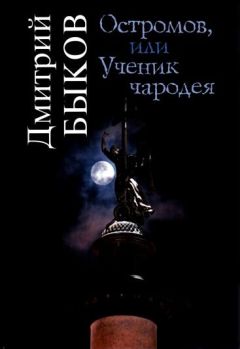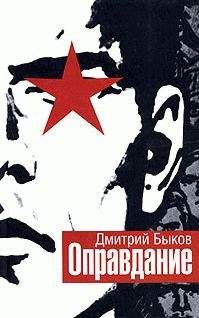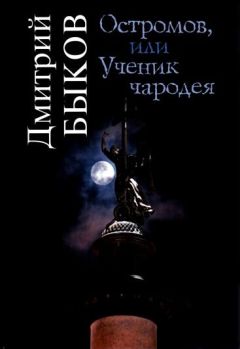Дальше в сказке появлялся юноша Хасан, страстно желавший стать учеником чародея. Он знал, что у чародея три особенности, по которым его может узнать всякий: он знает магию кукол, то есть умеет с помощью куклы исцелить или убить человека; он понимает язык зверей и птиц; и наконец — умеет находиться в двух местах одновременно.
Сначала Хасан входил в город, душный восточный город с масляными фонарями, и таинственный инстинкт вел его дальше и дальше, во все более темные улочки, где наконец он увидел странную лавку. Торговец, старик, предлагал грубых глиняных кукол, и Хасан понял, зачем их покупают. Они явно были нужны для колдовства и обладали чудесными свойствами. Он попросился к старику в помощники и за месяц («одна луна успела умереть, а другая народиться») достиг совершенства в лепке, но ничему волшебному так и не научился. Однажды он отважился спросить старика, когда же начнется колдовство, и торговец расхохотался ему в лицо: нет никакой магии, кричал он, никогда и никакой! Все они верят, что покупают у меня магических кукол, но магического в них только то, что за эти куски глины мне отдают последнее. Помнишь вдову, которая вчера просила куклу ребенка, чтобы исцелить больное дитя? Помнишь мужчину, который отдал последний грош, чтобы отомстить правителю, похитившему его жену? Все эти несчастные дураки думают, будто глиняная кукла может помочь им, — так почему же мне не воспользоваться их глупостью?!
— Ах, так! — воскликнул Хасан и схватил с полки фигурку чародея, китайскую, тончайшего фарфора. — Ты обираешь людей, отнимая у бедняков их жалкие гроши, и сам не веришь в свою магию? Будь ты проклят! — и швырнул фигурку на пол, и тут же в ужасе увидел, как хрипит и тянется скрюченными пальцами к его горлу мнимый чародей. Он умер и упал среди осколков, потому что сердце его лопнуло от жадности — хотя китайская фигурка стоила меньше, чем он зарабатывал за день: ни один скряга не может видеть, как гибнет его добро, а этот скряга был вдобавок стар. Так Хасан впервые применил магию куклы — разбил фигуру и убил злодея. Он не понял этого и стремительно бежал из города.
Он бежал, о великий царь, в темный лес, — рассказывала мать в другой вечер, — и бежал до тех пор, спасаясь от мнимой погони, пока не завидел впереди огонек и не пришел, задыхаясь, с расцарапанным лицом, к низкому домику с занавешенными окнами. На его стук открыл гневный старик. Он выслушал хасанову историю (о смерти торговца Хасан умолчал) и гордо ответил: «Я истинный чародей, ибо умею превращать зверей в людей и делать их моими слугами. Учись у меня и служи мне, деваться тебе все равно некуда», — и Хасан принужден был участвовать в его безжалостных опытах. Старик не был жесток, он лишь не умел чувствовать чужой боли и искренне верил, что способен улучшить творение. Около десятка связанных, прикованных к стенам животных томились в его хижине, и он пытался вылепить из них сверхчеловеческие, небывалые существа, наделенные змеиной гибкостью, ланьей быстротой и тигриной силой. К счастью, самого Хасана он к опытам не допускал, заставляя лишь кипятить воду в котелке, готовить инструменты да засыпать корм в кормушки. Но однажды ночью, когда после целого дня особенно изощренных мучительств фальшивый чародей крепко спал, Хасан вознамерился освободить пленников. Он не знал лишь, где старик хранит ключи от замков и кандалов, — и стоял посреди хижины в растерянности, слушая мерный храп мучителя. Тут в его голове раздалось вдруг нечто вроде страшного хора — змеиное шипение, крик обезьяны, ржание дикой лошади, и все они хором кричали ему: «Ларец! Ларец!». Он увидел старинный ларец на столе, ножом поддел его крышку, достал ключи и освободил животных, которые в ту же секунду вырвались из оков и растерзали старика, прежде чем он успел проснуться. А Хасану они указали выход из леса, и он устремился на поиски подлинного чародея.
Этот подлинный чародей, как казалось ему, жил в отдаленном городе, на краю мира, и Хасану долго пришлось проходить испытания, прежде чем его взяли в услужение. Но у этого чародея, заставлявшего Хасана днем делать всю домашнюю работу, а ночью предаваться бессмысленным упражнениям с мячами и мечами, была красавица дочь. Хасан очень быстро понял, что чародей снова оказался фальшив, и готов был уже поверить, что никакой магии не существует в самом деле, но дочь, красавица Фариза, удерживала его в башне. Но чародей был хитер и прознал о любви, связавшей сердца Хасана и Фаризы. Он заточил Фаризу в самой высокой комнате своей башни, а Хасану решил отомстить хитро и жестоко. Он послал ученика к своему сопернику, шарлатану, также называвшему себя чародеем, а сам написал донос, что Хасан задумал ограбить этого чародея и проговорился об этом на базаре. А потому его надлежит схватить, дабы предупредить злодеяние.
Случилось, однако, так, что Хасан по дороге к сопернику чародея в самом деле зашел на базар — он любил послушать разговоры, а торопиться ему было некуда. И там, на базаре, он увидел, как торговец бьет рабыню, и вступился за нее. Торговец заорал, что Хасан пытается похитить девушку, и позвал стражу. Стража доставила его к визирю, и тот воскликнул: «Поистине, храбрый юноша, ты способен находиться в двух местах одновременно! Ты грабил торговца на базаре и в то же самое время умудрился ограбить другого чародея на другом конце города! Вот у меня донос о том, что ты намеревался пойти туда. Чему же мне верить?». Когда же визирь узнал, что торговец солгал и у него ничего не украдено, он отпустил Хасана с миром, а чародею повелел дать палок за ложный донос. Хасан же влюбился в прекрасную рабыню, которую избивал торговец, и она, само собой, оказалась принцессой. Вдобавок, оказавшись в двух местах одновременно, он доказал наличие у себя третьей колдовской способности, и в тот же вечер ему предстал чародей, спустившись откуда-то с неба. Он был в синем халате цвета багдадского вечера, расшитого звездами, и сказал: «Прекрасный юноша! Три чародея явились тебе, и все они были шарлатанами, но сражаясь с ними, ты обрел три великих способности. Помни, что истинный чародей ничему не учит прямо, ибо он — сам мир, и тот, кто ходит в нем прямыми путями, всегда обретет волшебные свойства». Дане очень понравилась эта мораль — вот, искал одно, а нашел другое, — но ему несколько жаль было дочь, заточенную в башне. Конечно, получив палок, отец выпустил ее, поскольку Хасан больше не представлял опасности, — а все-таки жалко было девушку.
Вот об этом, о Крыме, который, как истинный чародей, учит не тому и не так, как ожидаешь, — он написал бы; но делиться этой сказкой ему ни с кем не хотелось. И он ограничился разговором о том, что на всякой границе жизнь чувствуется острей.
3
Льговский приехал в Ленинград на два дня, выступать на диспуте в университете.
Диспут был никому не нужен, и ему меньше всех, но он поехал, потому что откликался в последнее время на все приглашения. Сидеть дома перед чистым листом было невыносимее.
Он ходил на заседания, бегал на студию, сочинял сценарии. Он брался за все, потому что непонятно было, что нужно. Чувствовался перелом, как в незаконченной книге, доведенной едва-едва до свадьбы, чувствуется финальное убийство. Неизвестно только, кого убьют.
Ключевых слов теперь не было, он не мог себе их даже представить. Что до красок, все было похоже на вареное мясо. Когда кладешь его в кастрюлю, оно красное, а через полминуты, на глазах, серое. Все вываривалось. Пошлостью были любые слова об этом. Одни пошляки обличали пошлость других. Слов еще не было, их не придумали, и главное, придумывать было незачем.
Так выглядит рассвет после ночи с нелюбимой, когда казалось, что будет все, а оказывалось, что опять пусто. И обидней всего было, что любимых больше не будет. Это понятие исчезло, но надо же с кем-то ругаться.
Все способности к несчастной любви, говорил он, ушли на «Письма о нелюбви», но это было софизмом, как и все, что он говорил теперь. Все способности к любви ушли на иное, когда померещилось нечто и кончилось вот чем.
В девятнадцатом году он ничего не делал и чувствовал, что движет мирами. В двадцать пятом он был постоянно занят, бегал из учреждения в учреждение, и все это было бессмысленно, унизительно и ненужно. Большую часть времени ему казалось, что он отрывает драгоценные часы от главного, а когда приходили эти свободные часы, он не знал, что делать в образовавшейся лакуне. Можно было только сидеть перед листом и чертить то, что покойный Мельников назвал «виньетки творческого ожидания».
Мельников бы делал сейчас то же самое или бродил бы где-нибудь на границе с Персией. Его бы там три раза поймали, а на четвертый убили.
Не было сил ни окончательно порвать с действительностью, ни слиться с ней. Хорошо было Юрию: Юрий стал писать исторические романы. Льговскому неинтересно было писать про то, что все и так поняли. Можно было бы писать о литературе, но ее не было. Делать же саму литературу он не умел. Для этого требовалось слишком много условностей, а он хотел говорить прямо.