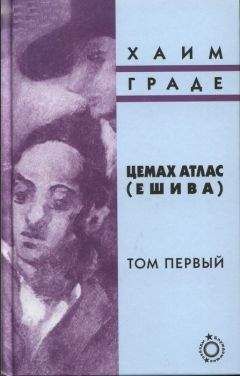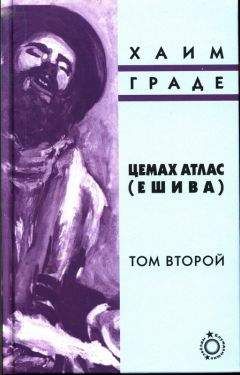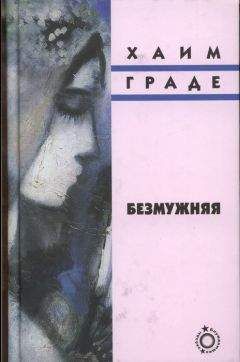Цемах выглядел так, будто у него был приступ лихорадки, и так же говорил. Лицо Хайкла тоже горело, как в огне. Он со страхом оглядывался, не слышат ли задержавшиеся в синагоге прихожане их разговора. Ему казалось, что валкеникский глава ешивы знает о его грешных мыслях о жене табачника, красивой ведьме, все еще сводящей с ума своего бывшего мужа. Хайкл набрался сил и посмотрел главе ешивы прямо в лицо.
— Реб Менахем-Мендл может вести себя так же, как Вова Барбитолер?
— Реб Менахем-Мендл? — растерялся от этого неожиданного вопроса Цемах. — Может быть, реб Менахем-Мендл нет, наверняка нет! Однако какой-нибудь другой ученый еврей действительно может повести себя как Вова Барбитолер. Он может быть главой ешивы, раввином, набожным евреем, деликатным евреем, не пьющим водки вообще, и все же он останется, в сущности, Вовой Барбитолером.
— Если даже ученый еврей может быть Вовой Барбитолером, то чем же тут поможет то, что я поеду учиться в ешиве? — снова спросил Хайкл.
— Изучать Гемару недостаточно. Надо изучать мусар, работать над собой, чтобы Вова Барбитолер в нас не смог вырасти. — Глава ешивы ткнул пальцем в пол, на котором валялся табачник.
Цемах уселся на скамью, уперся лбом в стендер и замолчал. Он знал, что должен договориться с этим учеником о том, что тот поедет в ешиву. Однако его собственные слова разожгли в Цемахе погасший было огонь, обрывки воспоминаний летали в его мозгу, как искры, жужжали в нем, кусали его, как осенние мухи. Он протянул руку, привлек к себе виленчанина, обнял его за плечи и заговорил с глубокой печалью в голосе:
— Гемара рассказывает нам о танае[96] рабби Эльазаре…
Евреи, опоздавшие на общественную молитву, — каждый в своем углу — бормотали про себя слова молитвы, складывали талесы. Один молящийся все еще зажмуривал глаза, качал головой из стороны в сторону и бормотал:
— Помни, что сделал тебе Амалек[97].
Другой еврей подпрыгивал на месте, читая «Я верю», а третий читал псалмы. Евреи выходили из синагоги и радостно бежали по своим делам. В синагоге остались Цемах и Хайкл. Золотое осеннее солнце конца тишрея[98] швыряло в синагогу через окна снопы пшеницы. Однако валкеникский глава ешивы словно отталкивал солнечные лучи своей черной, как уголь, бородой и ночными искрами глаз.
— Только тот, кто изучает мусар, видит как через увеличительное стекло все скрытые вожделения в своей потаенности, а когда человек видит, что в нем негодного, он может это из себя искоренить, — подвел итог разговора о танае рабби Эльазаре Цемах.
Хайкл слушал, и его тянуло поехать вместе с Цемахом в Валкеник и работать до тех пор, пока и он не станет новогрудковским мусарником, как глава ешивы.
— Отец! — чуть не закричал он.
По возмущенному виду отца сын понял, что мать уже разговаривала с ним о ешиве. Цемах посмотрел на вошедшего с заметным удивлением. Он не ожидал, что муж торговки фруктами окажется таким широкоплечим евреем с четырехугольной подстриженной бородой и с такими молодыми блестящими глазами. Шапка сдвинута набок, а в руке — тяжелая палка с рукоятью из бычьего рога. Реб Шлойме-Мота не выглядел старым больным меламедом без хедера. Он уселся на скамью рядом с печкой со снежно-белыми эмалированными плитками и позвал к себе своего младшего сына:
— Даже не думай о том, чтобы поехать в ешиву. Ты пойдешь в ремесленники.
Хайкл пробормотал, что мама хочет, чтобы он поехал.
— Ты не поедешь! — крикнул отец.
— Нет, поеду! — ответил сын и бросился к двери, чтобы убежать, но слова отца настигли его и приковали к месту.
— Если ты уедешь против моей воли, то не читай после моей смерти кадиш[99] по мне.
— Если ваш сын не будет сыном Торы, он так и так не будет читать по вам кадиш. — Глава валкеникской ешивы встал со своего места у восточной стены и направился к меламеду, сидевшему у печки. — Почему вы должны быть против? Мы обеспечим его хорошей квартирой, в будние дни он будет питаться на кухне ешивы вместе с другими учениками, а на субботу мы будем устраивать его к состоятельному обывателю.
Реб Шлойме-Мота медленно, опираясь на палку, поднялся со своего места и крикнул сыну:
— Что ты стоишь? Иди! С тобой я поговорю позже!
Хайкл выбежал из синагоги, готовый расплакаться, а реб Шлойме-Мота заорал еще громче на главу ешивы: он не хочет, чтобы его сын вырос священнослужителем, святошей, невеждой в мирских делах. Будь он еще в силах зарабатывать деньги, он бы отправил сына в семинар, где изучают и Тору, и светские науки. Однако поскольку он старый и сломленный болезнями бедняк, его сын должен стать человеком, самостоятельно зарабатывающим себе на хлеб, а не сидящим за чужим столом. Тот, кто не живет на собственные доходы, должен раболепствовать перед своими кормильцами, он должен стать подхалимом и лицемером, а иначе он станет мизантропом, ненавидящим весь мир.
До сих пор Цемах сдерживался, потому что рядом находился ученик. Теперь он выплеснул на меламеда кипящий поток слов:
— Самые великие раввины и лучшие из обывателей мальчишками ели за чужими столами. Разве они выросли худшими и более согбенными людьми, чем те, кому не приходилось есть за чужими столами? Когда еврей дает поесть изучающему Тору, он дает от всего сердца. Если попадается обыватель, не испытывающий уважения к сыну Торы, сын Торы знает, что он должен полностью игнорировать такого невежу.
Реб Шлойме-Мота снова уселся на скамью и пожал плечами:
— Игнорировать обывателя, который дает есть, — это наглость попрошайки. Если человек привыкает с юности жить на подачки, он на всю жизнь остается калекой.
Цемах направился к восточной стене, надел свое пальто и на обратном пути к двери снова остановился рядом с меламедом.
— Калекой остается человек, которого с юности учат, чтобы он считался с тем, что кто-то думает или говорит. Когда пьяница унижал вашего сына и даже хотел его избить, вы ничего не говорили. Однако когда я хочу взять его с собой в ешиву, где он будет расти в учебе среди равных ему товарищей, в вас вдруг пробудился просвещенец, и вы заговорили о том, что надо изучать и Тору, и светские науки. Я даже не уверен, что вы имеете в виду, что и Тору надо тоже изучать. В нынешние времена светские науки и Тора не идут вместе, ремесло и Тора не идут вместе. В нынешние времена еврей либо сын Торы, либо пренебрегает заповедями. — Цемах махнул рукой и вышел из синагоги.
Насколько у него не получается настоять на своем, реб Шлойме-Мота понял вечером дома. Веля желала знать, почему он не согласен порадовать ее сыном, изучающим Тору. Разве она мало надрывается на работе? Разве у нее мало горестей? А что получается от Хайкла дома? Он ходит с ней на рынок закупать товар? Он помогает ей зазывать клиентов в лавку? А главное — Веля не могла простить мужу того, что он крикнул Хайклу вслед в синагоге, что если тот поедет против отцовской воли, то пусть не читает после его смерти кадиш по нему.
— Еще неизвестно, чье время придет раньше, — торговка фруктами пугала мужа тем, что она может уйти первой. Реб Шлойме-Мота махнул рукой. Пусть она делает со своим сокровищем что хочет. Весь вечер все трое молчали, а Веля крутилась по дому ссутулившаяся, сразу же постаревшая. Только перед тем, как лечь спать, реб Шлойме-Мота ненадолго вышел во двор, а она, поправляя его постель, поспешно шепнула сыну:
— Дурачок, ты думаешь, отец не хочет, чтобы ты поехал учиться? Он любит тебя и не хочет оставаться один на старости лет.
И она быстро вытерла слезы, чтобы муж не заметил, что она плакала.
На Мясницкой улице в большом магазине фруктов Зельды-жестянщицы всегда было не протолкнуться от покупателей. Но когда какая-нибудь хозяйка хотела войти за покупками в другую лавку, дочери Зельды бросались на улицу, как голодные волчицы, и затаскивали эту хозяйку к себе. Веля, торговавшая фруктами напротив, боялась слово сказать, чтобы не попасть на острые языки этих санхеривов[100].
— Санхерив похвалялся тем, что его имя нельзя упоминать, не умывшись предварительно, а Зельда и ее дочери весь мир готовы спалить, — говорит Веля, хорошо разбирающаяся в Пятикнижии на идише.
Муж Зельды, Касриэлка-жестянщик, пьянствовал больше, чем работал, и шлялся где-то попусту, пока на него нападал голод. Тогда он приходил в лавку, где его жена торговала фруктами. Зельда и младшая дочь стояли за кошелками с фруктами, средняя дочь продавала всякую зелень, а старшая, прямо огонь, стояла над коробками с сушеной рыбой, бочонком с селедкой и банками с солеными огурцами. Магазин был битком набит покупателями, и жестянщик делал вид, что хочет помочь продавать товар.
— Тетенька, что вам надо, яблок? — и он насыпал в бумажный пакет антоновки.