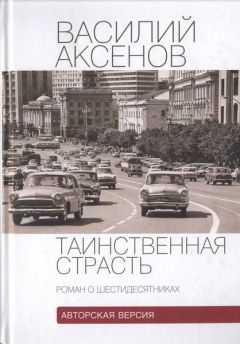И так ты возвращаешься почти по прямому меридиану в Париж, где девушки той весной ходили в распахнутых пальто и в трико, с большими цветными платками на бедрах, и где ты легкомысленно бродил несколько дней до полета в Москву, не догадываясь, что ты находишься под протекцией временщика.
В самолете было полно недавней советской прессы. Ваксон набрал нелегкую кипу и уединился в углу полупустой кабины. Почти в каждом издании он находил покаянные заявления раскритикованных творческих работников, особенно художников и писателей. В «Комсомолке» натолкнулся на короткое, с пол-ладони длиной, письмо Роберта: «…И мы прекрасно понимаем, что суровые слова НиДельфы Сергеевича были продиктованы глубокой заботой о нашем творческом „молодняке“…» В «Литературке» среди заголовков типа «Верность и единство» вмонтирована продолговатость Антоши Андреотиса: «…Ленин — это головокружительная высота и голубизна. Хрущев — это самый близкий к Ленину деятель современности!..» В «Известиях» стих Яна Тушинского: «…Партбилеты ведут пароходы, / Партбилеты ведут поезда! / Как отцы экономим мы порох, / Чтоб сияла родная звезда!» И множество соответствующих ссылок в разных изданиях и в разных статьях на Кукуша Октаву, на Энерга Месхиева, на Генриха Известнова, на Петра Щипкова и прочих из сильно или слегка провинившихся. Множество было также писем трудящихся из разных отраслей: доярок, металлургов, рыбаков, швей, свинарок, библиотекарей, поваров, экскурсоводов, археологов, преподавателей и студентов, а также профессоров многочисленных вузов, сотрудников милиции, артистов цирка, сварщиков, монтажников, дегустаторов вина, сборщиков чая, оленеводов, золотоискателей, пограничников родины, экипажей дальнего плавания, артистов оперетты, рабочих фабрики мягких игрушек, сверлильщиков твердых пород, лаборантов атмосферного зондирования — все они увещевали писателей и других работников идеологического фронта не отрываться от исторической поступи нашей Партии. Ваксон пошел в туалетный чуланчик и там, надавив двумя пальцами на корень языка, отблевался за милую душу. Все было ясно: Партия не отвергает послесталинских артистов, она их просто влечет в связке за собой.
Приехав в Москву, он первым делом отправился в журнал. Там, как всегда, в извилистых коридорах люди сталкивались друг с другом. Секретарши разносили чай с лимоном. В глубине извилистой кишки Ося Шик кричал по телефону: «А ты пошли его подальше! Пошли подальше!» Юрий Максимильянович Аржанников сидел в своем кабинетике, между тем как его длинная нога в безукоризненно начищенном ботинке покачивалась в коридоре. Стучали две пишущие машинки, Таня и Рита. Завотделами Мэри и Ирина, жены высокопоставленных людей, обменивались слухами о подводных течениях в Союзе писателей. Словом, все было как всегда — привычный и убаюкивающий журнальный быт.
Ваксон зашел к журнальному критику Стасу Разгуляеву[38], которому обычно первому тащил свои сочинения. Тот оторвался от каких-то страниц и кивнул ему на единственное кресло для посетителей. «Садись, графоманище несусветный, я сейчас!» Таким элегантным образом он всегда приветствовал близких друзей. Ваксон снял аргентинскую шляпу, высморкался в аргентинский платок и закурил аргентинскую сигарету. Ну, сейчас начнется треп, подумал он, однако Разгуляев не задал ему ни единого вопроса о дальних странствиях, а вместо этого сказал: «Тут, знаешь ли, Вакса, тебя заждались. Вся ваша золотая молодежь уже покаялась черт знает в чем, а тебя среди них нет. Учти, сейчас на тебя навалятся и Луговой, и Камп, и Преображ, и прочие, и все будут настаивать, чтобы и ты пролил слезу. Есть также точка зрения, что если Ваксон не выступит, журналу — крышка. В этой ситуации вообще-то трудно не замазаться. Лучше бы было опять куда-нибудь уехать».
«О-хо-хо, — проговорил приезжий и зевнул. — Да, пожалуй, уеду куда-нибудь в Австралию или в Новую Гвинею, к родственникам Миклухо-Маклая».
«Тебе что, открытый паспорт, что ли, выписали?»
«Стас!»
«Да я шучу».
«И я шучу. Можно я от тебя сделаю пару звонков?»
Стас вытащил из-под бумажного хлама черный тяжелый телефон, брякнул его перед Ваксоном, а сам вышел — вот такая существовала деликатность.
Первый звонок он сделал Нинке Стожаровой. Подошел муж Адриан, по-теннисному Адри.
«Простите, нельзя ли Нину Афанасьевну?» — спросил Ваксон.
«А, это ты, Вакс! Нинки сейчас нет», — быстро проговорил вечно торопящийся муж.
Ваксон сделал вид, что это не он: «Это говорят из „Декоративного искусства“».
«Ну, понятно-понятно. В общем, ты в городе. Пока!»
Следующий звонок был направлен домой, в жилкооператив. Странно веселым голосом ответила Миррель: «Пока ты слонялся по своим Аргентинам, мне сделали операцию. Вытащили кисет с драгоценностями. Чувствую себя классно».
«А как Дельф?»
«Дельф решил жениться».
«На ком?»
«На Васёне. Ну, видишь ли, он стал шофером, а шоферам полагается жениться на домработницах; вот так и получается».
«В общем, я вижу, вы и без папы прекрасно обходитесь».
«В общем-то обходимся. А ты когда прилетишь?»
«Да я уже прилетел. Ищу такси».
В это время в коридоре послышались звуки тяжелых шагов и барственные голоса старших сотрудников. «Ну, где же он, наш долгожданный Ваксон?» Прозвучал резкий голос секретарши главного: «Николай Борисович просит к себе Вакса Ваксона!»
Он позволил себе на минуту закрыть глаза. Ну, вот сейчас они начнут ко мне применять партийную тактику влияния и убеждения. Зерно этой тактики заключается в том, чтобы замазать всех вокруг. Интересно, сколько раз каждый из них замазывался? По всей вероятности, все они — и Преображ, и Железняк, и сам Камп — замазывались только однажды, а дальше уж все шло само собой. Теперь надо под маркой спасения журнала замазать и меня; раз и навсегда. Хер вам, со мной у вас так не получится. Вообще-то получилось, но с неожиданным результатом.
1963, апрель — май
Депрессуха
«Романешти» Роберта и Милки Колокольцевой продолжался уже около трех недель. Вначале все шло вдохновенно и идеально, в том смысле, что без всяких крючков и задоринок. Он приезжал на Чистые пруды раньше девчонки и, стоя у окна, без конца курил, предвосхищая ее появление в пространстве. Милка выходила из метро на «Кировской», проезжала две остановки на троллейбусе в сторону Покровских ворот, потом, не обходя бульвар, устремлялась бегом по льду катка. С пятого этажа он смотрел, как она приближается, сияя своей юностью и влюбленностью, как она прыгает с кочки на кочку, а иногда по-детски скользит по чистым полоскам льда. Зная, что он ждет ее у окна, она семафорила руками в красных варежках. Приближалась весна, каток уже не функционировал, однако редкие смельчаки, Милка в их числе, все еще пересекали пруд по прямой.
Врывалась с визгом в «гарсоньерку» вождя молодой поэзии, бросалась к возлюбленному на шею, повисала. С притворной грубостью он вычитывал ее за ледовые пробежки: «Ты что, паршивка, хочешь провалиться в городскую канализацию?», она отвечала ему в той же манере: «Молчи, балда!», ну а потом начиналось то бурное, то нежнейшее обоюдное раздевание.
Потом появились некоторые сложности. Ян все чаще стал возникать в своей берлоге. Иной раз Роберт и Милка являлись туда вдвоем и видели поэта номер один за его столом, заваленным черновиками стихов, накарябанных несусветным почерком. Ян с нескрываемым восхищением глазел на мадмуазель Колокольцеву, начинал варить кофе, открывать шампанское, читать стихи. С юморком, но также и с лисьей хитроватостью лица намекал на многовековую французскую традицию menage a trois. «У нас эти „труа“ все-таки завершались роковыми дуэтами», — шуткой на шутку отвечал Роберт.
Он начал искать какое-нибудь новое пристанище. Найти тогда комнату с отдельным входом было нелегко, чтобы не сказать невозможно. Барлахский дал им ключ и пригласил являться в любое время без стеснений, однако первый же визит «Робслана и Льюдмилы» обернулся курьезом. В квартире кутила русско-грузинская компания поэтов, все начали орать, падать на одно колено, восхвалять «воплощение всемирной красоты»; ну, в общем, влюбленные «засветились по полной» на обе столицы.
Бесцеремонные друзья теперь при виде Эра восклицали: «Роба, тебя узнать нельзя! Ты просто расцвел! Вот что делает любовь!» и т. д. На самом деле все было «с точностью наоборот». То, что с ним в те дни происходило, трудно было назвать расцветом. Прежде он, хотя бы внешне, являл собой воплощение атлетического спокойствия. Сейчас — помолодел и похудел, то и дело посматривал на часы, движения приобрели резкость, сродни баскетбольным финтам, в общем, как тогда говорили, «заерзал».
Семья из надежного и любимого прибежища превратилась для него в муку. Он и прежде не отличался особенной разговорчивостью, сейчас часами молчал. Садился в кресло, раскрывал газету, исчезал. Теща Ритка однажды заглянула за лист и увидела, что Роб там сидит с закрытыми глазами. «Робочка, может быть, тебе сделать газетный мешок для головы?» — пошутила она, однако, взглянув на Анку, осеклась.