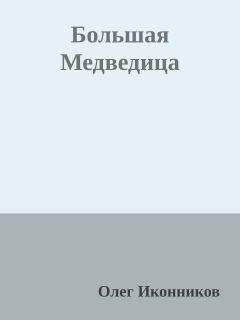Мысль сбивается, мельтешит, выносит опять не туда. Мы не успеваем осознать, сполна ощутить прожитое — оно уже отживает, никому не нужное, не интересное, догнивает, как вещи на свалке, вместе с драгоценными стекляшками детства, деревянным пистолетом, фонариком без батарейки, бачком для проявления пленок. широких, с перфорацией, таких теперь нет. За проявителем приходилось ездить из своего пригорода в Москву, достать и там было непросто. А еще нужен был закрепитель, по-научному фиксаж. Сейчас другим не объяснишь, какое это было священнодействие, как дрожали руки, когда впервые стал высвобождать из катушки мокрую пленку, еще толком не промытую, не терпелось посмотреть хотя бы краешек, самый конец. совсем черный. неужели засвечен? Мама подошла помогать, чтобы не выронил, не испортил. Темная тень, негатив лица, не догадаться бы, чьего, если бы не знал сам. Печать без увеличителя, бумагу вложить в рамку, включить и выключить свет. Секунды творения, красный фонарь алхимика, возникает, наполняется чертами теплое живое лицо. Лицо мамы. Вьющиеся, коротко подстриженные волосы, берет слегка набекрень. Она с папой, щека к щеке, без морщин. Вот тут на папе белые жениховские брюки, белая рубашка, парусиновые туфли начищены мелом. Дайте мне его увидеть, плакала мама, когда мы вернули ее после попытки уйти из дома, пробовали успокоить, раскрыли перед ней семейный альбом. Не узнавала его на фотографии, не хотела узнавать. Как будто отпечатанная на бумаге память подменяла, вытесняла другую, настоящую. сворачивалась в огне трубочкой, чернела, таяла, рассыпалась. Тени, ставшие дымом, отпечатки теней. Истощенное иссохшее тело, груди, как сморщенные груши. Наташа позвала меня помочь, когда мыла ее в ванной. Мама не хотела, чтобы я увидел ее такую, мужчине лучше не знать всего. На похороны пришли кроме нас только четверо соседей, не осталось никого из ее прежней, неизвестной мне жизни. Девочку на похороны брать было нельзя, ей сказали о смерти бабушки время спустя. При нас она не заплакала, только чуть скривилась, уткнулась лицом в мягкую шерсть, ушла к себе. Потом я из-за двери услышал, как она рассказывает Куте про бабушку. Когда бабушка была девочкой, у нее была собачка, ее звали тоже Кутя. Она ее очень любила. И меня любила. И папу любила. Она всех любила. Жар у нее начался через два дня. Умный врач понял раньше, чем я: температура бывает не только от гриппа. Она у Сони повышалась и прежде, когда приходилось вести ее в детский сад. Натягивал на нее, еще сонную, колготки, они за ночь не просыхали на батарее, плохо топили, ставил ей пластинку с детской сказкой, чтобы не плакала, отвлеклась. Ну что ты потеряешь, если все узнаешь? Али — Баба. Я чувствовал себя преступником. Мама вызвалась брать ее к себе, хотя сама уже ходила с трудом. Отвозил к ней Соню, все чаще оставлял на ночь, она не хотела возвращаться. Наташа немного ревновала. Пришлось вернуться. Привыкать к жизни. Привыкла, как все мы. Когда-то все игрушки были живые. Нам дарована была гениальность, не удержать, не вернуть, не вернуться. Мне не давал покоя вопрос: божья коровка сидит на листе крапивы — как она не ужалится? Стеснялся спросить маму. Или спросил? Что же она мне ответила? До сих пор не знаю. Надо будет спросить Наташу. Она должна скоро прийти, ей, наверное, сказали диагноз. Или она уже пришла?
Воздух светлеет. Теплое облако сгущается, опускается над лицом… сладкий знакомый запах. Наташа кормила Соню грудью до двух лет, Фрося считала, что это полезно. Как было не воспользоваться возможностью попробовать, отсосать совсем немного, чуть-чуть? Вкус молока нежно касается губ, разливается, оживает. Сладость выпуклого соска. Наташа ли это, мама ли? Неужели такое возможно. снова увидеть. увидеться?
Нежное сияние, дух живительного тепла. Открыты глаза или закрыты? Зеленый лист в темных прожилках, светлый пушок, черные точки на красной глянцевой спинке. Тонкие колючие волоски не прогибаются под твердым выпуклым телом. Какая невесомость, какая легкость, простота понимания! Божья коровка, улети на небо, у тебя там детки! Вздрагивают, расходятся, приподнимаются жесткие лакированные надкрылья, из-под них пробуют выпростаться нежные крылышки, слабенькие, полупрозрачные, как из папиросной бумаги. Можно ли на таких взлететь? Не удалось даже расправить. Приводит их в порядок, не без труда прячет в выпуклое укрытие. Попытаемся снова. Божья коровка, улети на небо. к деткам. улетает. летит. летим. Сияющее пространство, дыхание невесомости, прозрачная ясность.
© Марк Харитонов, 2014