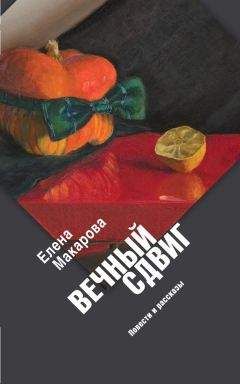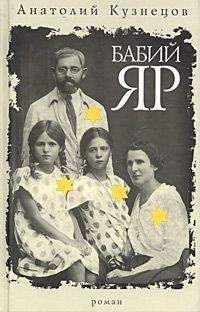Поезд дернулся, дрогнули плечи Марьи Аполлоновны, и Ася, прижавшись к ней, заплакала тихо, беззвучно, как взрослая.
– И куда же вас несет? – спросил, наконец, Павел Лукьянович.
– В Германию. Собирались строго по инструкции, электрическая плитка, пластмассовые стаканчики, вместо чайника у нас кастрюлька, но главное – кипятильник, в Риге это дефицит. Две ложки, альпаковые, вот не знаю, нужно ли их указывать в декларации?
– Какие? – переспросил Павел Лукьянович.
– Альпаковые, – повторила Марья Аполлоновна. – И еще перстень мамин с полудрагоценным камнем. Взгляните, – протянула она ему левую руку с коротко остриженными ногтями. – Я чего опасаюсь – вдруг не пропустят и передать будет некому.
– Пропустят, – махнул рукой Павел Лукьянович, отвернув взгляд от дрожащей на весу руки, – и не такое провозят. Пустяк.
– Это не пустяк, а фамильная драгоценность.
– Кого интересует ваша фамилия, – усмехнулся Павел Лукьянович.
– Фамилия-то простая, вот отчество у меня заковыристое, Аполлоновна.
– А имя?
– Марья. Как же так, мы и не представились, я-то думала вам Фаина Ивановна все про нас написала. А вы, оказывается, принимаете всех без разбору!
– Меня зовут Павел Лукьянович, и, к вашему сведению, всех без разбору не принимаю. Я вообще эту лавочку прикрою. В Германию… к фашистам в лапы…
– Мы к маминой подруге Лере, – объяснила Ася.
– Вы только нас на улицу не выставляйте на ночь глядя, – сказала Марья Аполлоновна. – У нас чемоданы тяжелые. Утрамбованы так, что откроешь – и не закроешь. А по-вашему, где родился – там и умри?
– Мама!
– Да я от этих нервов десять килограмм потеряла. Вон, кожа да кости, – Марья Аполлоновна похлопала себя по ляжкам. – Мы скоро уедем, уж потерпите как-нибудь… Спасибо, что не убили, не зажарили на сковородке, премного вам благодарна…
Чтобы уйти от взгляда Марьи Аполлоновны, Павел Лукьянович принялся резать колбасу, он стучал ножом по доске и думал про пса помоечного. Еще тогда, удаляясь с письмом, загадал: пойдет за мной, снесу колбасу, не пойдет – не снесу. Недальновидный пес так и остался при отбросах, а вместо него явилась Марья Аполлоновна с такими вот молящими глазами.
* * *
– Сострадалицы мои любезны!
Что печалиться ведь должно
Мир во прахе покидать,
Человеку ли возможно,
О минутном тосковать, —
читала Ася по слогам, а Марья Аполлоновна кивала в такт, словно бы они разучивали музыкальную пьесу.
– Человеку ли возможно о минутном тосковать, – повторила Марья Аполлоновна в задумчивости. – Вы про это книгу пишете?
– Нет. Я же сказал – нашел на помойке.
– А мы на макулатуру «Графа Монте-Кристо» приобрели, – ляпнула Марья Аполлоновна ни к селу ни к городу. – Ася в нем души не чает.
Ася покраснела и пулей вылетела из кухни.
– Она очень стеснительная. Еще и за меня приходится краснеть. Бывает, устанешь и несешь всякую чушь, иногда в стихах. У меня словесный понос, извините за выражение, еще в школе начался. …Признайтесь, вы историк? Моя Аська помешана на истории.
– Я пенсионер.
– Раз не признаетесь, значит, засекреченный. Я вот любому могу свою трудовую книжку показать. Это не книжка, а роман в двух томах. Хотите посмотреть?
– Увольте, – сказал Павел Лукьянович и, взяв в руки газету, спрятался за ней от Марьи Аполлоновны.
«В своей квартире места не найти! – жалел себя он, скользя невнимательным взглядом по газетным заголовкам. – Я не монах с помойки, чтоб утешать. И надо написать Фаине Ивановне, что отъезды в ФРГ не одобряю дважды. Допустим, еврей уезжает, чтобы жить среди своей нации. А эти что?
– Так вот, никакого багажа, – прорвался в сердитые мысли голос Марьи Аполлоновны. – С вами, то есть с нами, – должна быть сумка с провизией, консервами и колбасой, посуда из домашних запасов, электроплитка, кастрюля, две ложки, открывалка для консервов и нож. Никаких глупостей, вроде простыней или янтаря, разве что маленькие пустячки, если кто на память подарит.
Павел Лукьянович взглянул на Марью Аполлоновну поверх газеты. Та плакала над какой-то бумажкой.
– Прекратите сейчас же! Сколько ко мне таких, как вы, приезжало, и никто, извините, нюни не распускал.
– Ася, иди, доча, спать, – сказала Марья Аполлоновна ласково, – иди, котик.
«Красивая девочка, – подумал Павел Лукьянович, – кудрявая, голубоглазая, видно, в отца пошла».
– Родня-то у вас там есть? – спросил Павел Лукьянович Асю, заправляя простыню.
– Нет. Только тетя Лера, мамина подруга. А так все в Риге остались – и дедушка, и дядя с тетей. Зато у тети Леры есть Тим. Дворняга. Она ее отсюда вывезла. И столько денег угрохала! На животных пошлина большая.
– Разденешься – погаси свет, – скомандовал Павел Лукьянович и вышел из комнаты.
Он умылся холодной водой, смочил расческу, зачесал упрямый вихор. Ощупав руками шершавые щеки, он взялся за бритву, хотя с роду не брился на ночь. В преддверии долгой беседы – спать он собирался в кухне, и пока мадам не выговорится, он раскладушку не расставит, – Павел Лукьянович напился капель Вотчела, засосал капли сложным сахарком – лекарством собственного приготовления и предстал перед Марьей Аполлоновной.
Та спала, уткнувшись грудью в стол, но, ощутив на себе его взгляд, открыла глаза и сказала:
– Вы совсем другой.
– Не бука.
– Нет, не бука. И помолодели на двадцать лет.
– Если вы умоетесь холодной водой, приведете себя в порядок, причешетесь перед зеркалом…
– Это я с удовольствием, – сказала Марья Аполлоновна, потягиваясь и выгибая спину по-кошачьи.
– Слушьте, – обратился он к ней, когда она, наконец, вышла из ванной, шаркая по полу в его тапках. – У меня этих бутылок пропасть. Вот жду, кто бы от меня в Ригу поехал, там у вас принимают.
– А Фаина Ивановна?
– Ох уж эта ваша Фаина Ивановна!
– Честно говоря, я ее не знаю, она знакомая моих знакомых. И, положа руку на сердце, – Марья Аполлоновна приложила руку к худой груди, – у меня в Москве есть школьная подруга, я ее просила, но она отказалась. Дюже идейная.
– А я, по-вашему, безыдейный! – взорвался Павел Лукьянович. – Я-то чем обязан – член партии, участник войны, чем, я вас спрашиваю! За кого я свою кровь проливал, за таких, как вы… – «предателей» – чуть было не сорвалось с языка.
Марья Аполлоновна низко пригнула голову, выставив на обозрение макушку, которая после мытья розовела под редкими волосами.
– Я, понимаешь, собаку не взял, а вас взял!
– Правильно, – еще ниже склонилась Марья Аполлоновна. – Правильно. На меня все кричат, так что не стесняйтесь. Я привыкла. Лера меня перевоспитает. Она – волевая. Старше мужа на десять лет, а приучила его к стойлу. А у меня было три мужа: один подлец, другой подонок, а третий просто негодяй.
– Ася-то чья?
– Ася – первого, подлеца. Он в Израиле давно.
– Подлец – и в Израиль уехал!
– А подонок-то с негодяем здесь остались. Знаю, знаю, что скверно, – сжалась Марья Аполлоновна под осуждающим взглядом. – У меня все так: жизнь проходит пресно, малоинтересно, звякая и тикая, мчатся дни безликие…
– Прекратите грызть губы!
Марья Аполлоновна вынула из сумочки лекарство, выдавила таблетки из-под фольги и проглотила, не запивая.
– Последнего жалко. Алкоголик. А душа хорошая. Я его и так, и сяк, и торпеду мы ему вшивали, без толку. Воли у него нет.
– Без воли никуда, – заключил Павел Лукьянович и глотнул бальзама из рюмки.
Марья Аполлоновна компанию не составила.
– Язык немецкий знаете?
– Два слова. Битте – данкешен.
– Это три слова. Вы вообще-то учились где-нибудь?
– Я женщина с образованием и трудовым стажем, – облизала губы Марья Аполлоновна. – Ближе к культуре, дальше от денег. Тут все написано, – сказала она и вложила в руки Павла Лукьяновича трудовую книжку.
– Контролер с высшим образованием, техник на судоремонтном заводе, – как вас к технике-то подпускали? Воспитатель детского сада…
– Это из-за Аськи.
– А это из-за кого – старший кладовщик пряжи в ткацком производстве? И контролер сырья, и страховой агент!
– Лаборант, комендант общежития, стрелок… – продолжила она послужной список.
– Не суфлируйте, – Павел Лукьянович перелистывал страницу за страницей. Добравшись до вкладыша, он перевел дух и выпил бальзама. На последнем месте работы продержалась месяц: принята «нештатным страховым агентом в октябре 78 года, уволена в ноябре 78 года».
– Это из-за подачи. Чтоб людей не подводить.
– Спрячьте и в ФРГ никому не показывайте, не позорьте Советский Союз! Куда только отдел кадров смотрел?!
«Туда же, куда и я», – ответил он себе, взглянув на Марью Аполлоновну: карие глаза с поволокой излучали тихий скорбный свет, в трещины обкусанных губ набилась помада.
– Перестаньте грызть губы, вы – взрослая женщина!