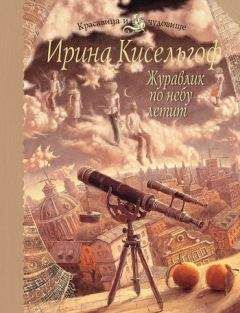– Я от тебя никогда не уйду, – неловко сказала я. – Ты же знаешь!
– Знаю.
– Мам, я уйду ненадолго? Совсем на капельку? – Мне нужно было подумать. – Я скоро приду. Правда!
– Хорошо.
Она смотрела не на меня, а на гречишную стену. На кладбище реальных вещей, не дотянувших до идеала. Где-то там оказался Мишкин папа, превратившийся в кусочек каменной крошки. Значит, он сам не дотянулся до идеала?
Я потопталась у двери.
– А он ничего не сделал? Вообще ничего?
Мама молчала. Я уже собралась уйти, как она сказала:
– Он обещал ждать.
– Потом будет видно. Да? – спросила я.
– Не знаю, – ответила мама.
– А ты знай! – вдруг закричала я. – Я хочу, чтобы у нас была большая семья, а не маленькая! Я хочу, чтобы мы собирались за большим столом, пели песни и ели пироги с ванилью! Я хочу ходить большой семьей в горы и на каток! В кино и театр! Всюду! И мне плевать, честно это или нечестно!
– Прости, – тихо сказала мама.
И я испугалась. Вся моя злость испарилась, будто ее и не было.
– Я просто так, – мой голос дрожал. – Я не заставляю. Нам вдвоем хорошо. Честно!
Мама подошла и обняла меня крепко-крепко. И как закружила!
– Мам, ты чего? – засмеялась я. – Ну, правда, чего? Мам!
Я смеялась, а она кружила меня и кружила, пока мы без сил не свалились на пол в моей комнате.
– Мам, что случилось? Говори же! – потребовала я.
Она взяла меня за руки и заглянула мне в лицо. В ее глазах гонял солнечный ветер, сияющий и легкий, каким он бывает весной. И я все поняла. Мне сначала чуток стало страшно, а потом нет.
– Давай пойдем сегодня в кафе, – предложила я.
– Давай, – улыбнулась мама.
Я оглянулась к окну. Солнце влезло к нам в форточку и протянуло свою лучистую пятерню. Прямо к нам! Я запрокинула голову и засмеялась. Здорово! Всегда бы так! Всегда!!!
– Хорошооо! – закричала я и вдруг запнулась. А как же Мишка? Значит, все?
– Что ты, Лисенок? – встревожилась мама.
– Ничего. – Я широко улыбнулась, чтобы не пугать маму. – Мне на минуточку нужно во двор. Я пойду? Ты не обидишься?
– Нет.
У нее встревоженный вид, а мне нужно подумать. Я чмокнула ее в щеку и побежала к двери.
– Вечером поход в кафе! – крикнула я из прихожей.
Надела кроссовки и спустилась во двор, чтобы думать без никого. Мои ноги сами понесли меня к зарослям сирени. Она давно растет в нашем дворе и стала высокой, как и деревья. Я никогда не видела такой сирени, как у нас. У нее толстые стволы, а к осени цветы превращаются в коричневые шишечки. Зато весной она какая! Вся в пухе и перьях из цветов белой сирени и розовой. И листья блестят солнцем, как зеркальца. Я полюбовалась сиренью, и мне захотелось ее домой. Я обошла кусты, поразмыслила и полезла повыше. Стянула ветки в охапку и засунула нос в пахучее и холодное облако крошечных цветов. Мои легкие наполнились запахом четырехлопастных пропеллеров и выветрили мысли из моей головы. А когда открыла глаза, перед моим носом, откуда ни возьмись, замаячила счастливая цветочная пентаграмма. Ам! Я почавкала белоснежным счастьем и загляделась на синее небо в зеленых заплатках из листьев сирени.
– Ты че делаешь?
Я глянула вниз, у кустов сирени стоял маленький мальчишка.
– Цветы рву. Не видишь, малявка?
– Они не твои!
– Хочешь сиренью по лбу?
– Не твои! – крикнул он и отбежал подальше.
Я ломала сирень, а вредный мальчишка канючил, что она не моя.
– Общая! – Я размахнулась огромным букетом сирени.
– Моя! – вякнул мальчишка и испарился как дым.
Я шла домой под дырчатой тенью плакучих березок у маминого окна. Они уже надели сережки и развернули тонкие листья к солнцу, а я вспомнила их осенью. Сейчас они веселые и нарядные, а скоро заплачут под осенним дождем.
«Не вербочка белая, – подумалось мне, – а березка – мама моя».
Я осторожно погладила березовый лист и убрала руку. Лист дышал устьицами, ловя солнечный ветер. Не надо ему мешать. Осенью солнца мало, а зимой его, считай, нет. И листьев тоже нет. Ничего нет. «И у тети Милы тоже может ничего не быть», – вдруг подумала я. Остановилась у подъезда и поделила букет надвое, для мамы и тети Милы. Поднялась наверх и положила сирень у Мишкиной двери.
– Какая разница, кто его принес? Главное, ей будет хорошо.
Я распахнула дверь, мама ждала меня в прихожей. У нее были такие испуганные глаза!
– Мам, а я сирень тебе принесла! – крикнула я и засмеялась.
Она прижала меня к себе, и я услышала сердце, общее для нас двоих.
Я не могу видеть лицо матери. Мне ее жаль, за это я смотрю на нее волком. Она глядит на меня, будто о чем-то просит, а меня душат слезы, и я отворачиваюсь, чтобы не зареветь как маленький. Ненавижу папашу! Чтоб он сдох, тварь! Не хочу быть дома. Я ухожу из дома и знаю – ей надо, чтобы с ней кто-нибудь был. Но я не могу видеть ее несчастные, растерянные глаза и ее постаревшее лицо.
– Не уходи, – попросила она меня. Жалко-жалко. Я снова чуть не заревел.
– Не уйду! – зверея, заорал я.
– Нет? – жалко-жалко переспросила она меня.
– Нет, – буркнул я. – Пойду на свою улицу.
Она кивнула, и я ушел, зная, что нужно остаться. Ненавижу себя! Сволочь!
На аэродинамической улице шпарило солнце, в горах бесновалась гроза, сшибив обугленные кучевые облака в ядерный гриб с лысой ледяной башкой. Ядерный гриб тянул к городу волосатую серую лапу, раскручивая шквальный ворот огромной удавкой. Прямо ко мне. Я подошел к перилам, под ними горланили сирены и визжали шины целой тучи долбаных консервных банок. Не хожу теперь в Лизкину сторону. Противно и… страшно. Я нагнулся, уличный вой воткнулся мне в уши.
Сигануть, что ли? Ни папаши, ни матери. Никого!
Я пнул перила, они закачались. Тупые железяки! А за ними тупые консервные банки. В одной из них разъезжает папаша. Сволочь! Я пнул по перилам, они прогнулись наружу. Уличный вой стал громче.
– Аааа! – зверея, завопил я. – Аааа!
И мою голову заволок бешеный красный туман. Я пинал и пинал перила как психбольной. Как обдолбанный нарик. Как последний идиот. Пинал и орал. А потом сдулся как воздушный шарик, сполз на гравий и заревел. Впервые за эти дни. Вспомнил, как все было. На лыжах и на санках в горах. На машине и на море. На дурацких спектаклях в ТЮЗе и в цирке. Даже детские утренники вспомнил! Все праздники вспомнил. Вспомнил, как отец таскал меня на плечах и учил стрелять в тире. Всегда вместе. Всегда весело. Втроем! Я даже помню его слезы, когда я сломал ногу и загибался с открытым переломом. И помню, когда отец целовал мать, я отворачивался, стыдно было. А сейчас нет! Не стыдно. Где все это? Как они могли? Гады!
Какого черта они потащили меня в картинную галерею? Мне было пять лет. Нашли кого учить уму-разуму! Там я увидел святого Себастьяна, утыканного заточенными стрелами, из ран хлещет кровь. До сих пор это помню, и больше ничего. Зачем они меня туда привели? А как отец первый раз взял меня на футбол? Футболиста унесли на носилках, а я все спрашивал:
– Папа, он умер? Он заболел? А почему так, а почему сяк?
Осподи! Я сплюнул и вытер слезы грязными ладонями. Лег на гравий и закрыл глаза без единой мысли в голове. Не знаю, сколько лежал, и вдруг услышал папашин голос:
– Миша! Можешь со мной поговорить?
Я даже не шевельнулся. Сделал вид, что умер. Он пошел ко мне, я слышал, как шуршал гравий, и меня корежило от злости. Уберись ты от меня, тупая сволочь! Не лезь! Не лезь! Провались на…!
– Можно?
Он сел рядом со мной, хотя я сказал «нельзя» тремя буквами. Он сыпал гравий и молчал. Меня это колбасило до красного бешенства.
– Что? – рявкнул я и осекся.
У него было серое лицо и мешки под глазами. Лицо мертвеца. Ясно почему. Она его опять бортанула, сто раз ему отказывала. Я знал это от Лизки. «Миша, не бойся, не надо переживать», – сказала она мне своим тоненьким голосочком. А я и не переживал; мне хотелось ее прибить, и реально прибил бы, если бы не увидел слезы в ее глазах.
Приперся просить прощения, чтобы зажить, как и было? Ни хрена! Как раньше уже не будет. Никогда!
– Я тебя люблю, – сказал он, и его лицо сморщилось. – Очень люблю.
– Нет! – каркнул я. Я хотел сказать «а я тебя нет», но у меня перехватило горло, и получилось, как получилось.
– Правда, – он меня не понял, но это неважно.
Мне действительно сейчас было неважно, любит он меня или нет. Мне важно было повернуть все назад и забыть, как дурной сон. А не слышать, как мне напоминают снова и снова, что прошлой жизни не будет.
– Я… – он запнулся. – Я не знаю, что сказать.
– Короче, – процедил я.
– Я перееду пока к бабушке? – вдруг спросил он. И мне вдруг стало холодно на самой жаре. Как мертвецу.
– Переезжай, – мертвыми губами ответил я.
– Чтобы все утряслось.
– Да.
– Я люблю тебя.
– Да.
Я закрыл глаза, он посидел, потом поднялся, как старик, и ушел насовсем. А я остался один на своей аэродинамической улице. Без отца. Я вообще ни о чем не думал. Просто встал и посмотрел вниз на улицу, на ней визжали и выли машины. Мои руки сами взялись за перила. За тонкие и непрочные железяки. Если упасть на них всей тяжестью тела, они не выдержат. Я нагнулся и увидел свое лицо, улетающее вниз. Мне не было страшно. Просто я удивился своему спокойному лицу, которое сейчас сплющит в лепешку. А потом меня унесут на носилках, как того футболиста из моего счастливого детства. Только я уже ничего не увижу.