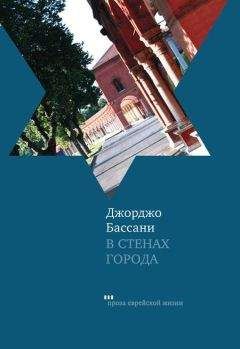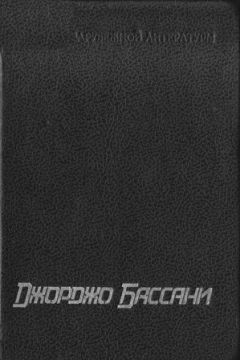Только вот, чтобы опровергнуть уже распространившееся мнение о том, что в расправе не принимал участия ни один феррарец, что ни один феррарец не запятнал себя этой кровью, с лихвой хватало имен остальных шестерых убитых: национальный советник Аббове, доктор Малакарне, счетовод Дзоли, отец и сын Казесы и рабочий Феллони — по меньшей мере пятерых из них забрали из собственных жилищ, которые, в отличие от тюрьмы на улице Пьянджипане, не были обозначены ни на какой топографической карте, а шестой, рабочий Феллони, ничем не примечательный работник электробюро, был присовокуплен к группе отправляемых на расстрел только потому, что ближе к рассвету, отправляясь, как обычно, на работу, натолкнулся на один из перекрывших центр города патрулей. Итак, только местный житель — продолжали рассуждать многие феррарцы в последующие дни, — и в придачу отменно знающий город, смог бы безошибочно разыскать национального советника Аббове, проживавшего в последнее время не в своем доме на проспекте Джовекка, а в гарсоньерке, которую он не так давно устроил себе в приобретенном за бесценок средневековом дворике на тихой и пустынной улице Бразавола и под укромным кровом которой время от времени преклонял свою убеленную изящными сединами голову зрелого жуира. Никто, кроме жителя Феррары, к тому же прекрасно осведомленного о том, что происходило в городе в последнее время, не мог знать о тайных совещаниях, проводившихся во время сорока пяти дней правительства Бадольо именно в гарсоньерке национального советника Аббове (доктор Малакарне и счетовод Дзоли присутствовали на каждом из них, но старый Лихо нет, он неизменно отклонял приглашения…), — совещаниях, призванных определить общую линию поведения для всех тех фашистов, что после падения режима с нетерпением стремились донести до короля «выражение безграничной преданности» и вообще, как говорится, как можно скорее «сменить окраску». Или, скажем, отец и сын Казесы, двое из немногих не попавшихся в сети великой сентябрьской облавы евреев (они торговали кожей и в жизни своей не задумывались о политике), которые с сентября жили взаперти на чердаке старого фамильного дома в переулке Торчикода, получая пищу через отверстие в полу исключительно из рук их жены и матери, католички и арийки чистейших кровей, — кто еще, если не человек, способный провести к укрытию с завязанными глазами — следовательно, кто-то из Феррары! — направил именно туда, на верхотуру, в пыльный лабиринт из полуразвалившихся лесенок, посланных за ними четырех головорезов? Кто, если не…?
Карло Аретузи, Лихо, кто же еще. И чтобы подозрения тут же пали на него (утром 16-го он снова взял в свои руки командование в федерации, и его имя с этого момента снова стали произносить, как в прежние времена, в начале двадцатых, инстинктивно понижая голос), достаточно было вспомнить, в каком виде он явился на похороны консула Болоньези во второй половине того же дня.
Аретузи ни разу не показался на подпольных собраниях, которые в августе несколько раз проходили в доме национального советника Аббове, напротив, он посылал сказать своим однопартийцам, что, не желая отрекаться в пятьдесят лет от того, что сделал в двадцать, участвовать в них не расположен. И вот он шагает во главе нескончаемой процессии, сразу за пушечным лафетом, на котором лежит гроб с телом консула, бросая то и дело в сторону домов на проспекте Джовекка и улице Палестро полные ненависти и презрения взгляды, вот его стройный силуэт, на плечах, несмотря на холод, одна лишь черная рубашка, фуражка Десятой флотилии[52] заломлена набекрень, виски едва серебрятся — почти в точности тот Лихо, каким был в двадцать лет. «Буржуйские крысы, сурки, проклятые трусы! Я вам покажу… Я выкурю вас из нор…» — грозил его гневный взгляд и скривленные губы. На площади Чертозы, перед тем как гроб внесли в церковь, он обратил к толпе пламенную речь. Толпа обступила его и слушала, серая и безучастная, и он все больше разъярялся — казалось, именно из-за этой безучастности.
— Тела одиннадцати предателей, расстрелянных сегодня на рассвете на проспекте Рома, — орал он напоследок, — останутся лежать там, пока я не прикажу их убрать. Сначала мы желаем убедиться, что пример возымел должный эффект!
Да уж, еще немного, и Аретузи в пароксизме бешенства заявил бы, что это он сам свершил правосудие, своими собственными руками!
И вот спустя каких-то полчаса, когда он своим внезапным появлением заставил вытянуться по стойке «смирно» трех солдат Черной бригады, стороживших на проспекте Рома тела расстрелянных, — как изволите толковать его манеру поведения, которая, как показалось вначале, являла столь разительный контраст с тем, что только что происходило на площади Чертозы, — а между тем на самом деле она говорила красноречивее сотни признаний?
Он вышел из машины чернее тучи, едва взглянув на лежавшие на тротуаре трупы; один из солдат, явно довольный тем, что власти подоспели так удачно, тотчас вышел вперед, докладывая о происходящем.
В течение целого дня — сообщал часовой, говоря также и от имени товарищей, — им втроем удавалось удерживать на расстоянии пытавшихся приблизиться к телам людей. Несколько раз, чтобы разогнать толпу (со всей вероятностью, речь шла о родственниках предателей — рыдавших и вопивших женщинах, изрыгавших проклятия мужчинах, — нелегко было заставить их подчиниться!), им даже пришлось выпустить в воздух несколько очередей, оттеснив людей к дальним концам Соборной площади и проспекта Джовекка, где и сейчас, как камерата Аретузи мог сам заметить, все еще упрямо толклись некоторые из них. Да, и что делать, добавил солдат, указывая рукой на окно, за стеклами которого виднелся неподвижный силуэт Пино Барилари, с тем синьором наверху — честное слово, совершенно непробиваемым типом, которого никакие увещевания и угрозы, никакие автоматные очереди не заставили отодвинуться от окна хотя бы на миллиметр? Кто его знает, может, он глухой. Эх, знать бы, как до него добраться — и уж они найдут способ подняться к нему, даже если придется вышибать двери, и убедят убраться с глаз подобру-поздорову…
Не успел солдат произнести слова «тот синьор наверху», как Лихо резко, словно ужаленный, поднял глаза на окно, куда указывал молодой солдат. На улице уже стемнело. Из крепостного рва наползал с каждой минутой сгущавшийся туман. И на все двести метров проспекта Рома это было единственное освещенное окно.
Не сводя с окна глаз, Лихо процедил сквозь зубы глухое ругательство и словно в знак презрения махнул рукой. Затем он обернулся и переменившимся голосом — в нем как будто слышался испуг — объявил часовым, что через двадцать минут прибудут его люди, чтобы убрать трупы и они никоим образом не должны этому препятствовать.
IV
Разные вещи пытались представить себе жители города.
Начинали с того, что воображали интерьер частной квартиры над аптекой, где никто ни разу не бывал, даже друзья-масоны покойного доктора Франческо. Служебное помещение аптеки с верхним этажом соединяла винтовая лестница. Наверху — не считая, разумеется, подсобных помещений — было всего четыре комнаты: столовая, гостиная, супружеская спальня и, наконец, комнатка, которую Пино, проведший здесь детство, вновь обжил после того, как его разбил паралич… В общем, благодаря работе воображения они словно держали в руках план квартиры или даже самолично поднялись туда — так что даже могли показать, на какой стене в столовой висит фотопортрет Мензурки в тяжелой золоченой раме девятнадцатого века; или описать форму люстры, рисовавшей на зеленом сукне стола или на картах раскладываемого каждый вечер пасьянса круг ослепительно белого света; или рассказать о том, какой эффект в подобном контексте создавали встречающиеся повсюду, но больше всего скопившиеся в супружеской спальне элементы мебели и обстановки в современном вкусе, завезенные сюда молодой синьорой Барилари; или долго, с необычайным обилием подробностей распространяться о смежной с супружеской спальней комнатке, куда Пино сразу после ужина удалялся на покой: в углу железная кроватка, у стены маленький письменный стол, напротив шкаф, а рядом с кроватью с наброшенным поверх пледом из шотландской шерсти в красно-синюю клетку большое кресло с регулируемой спинкой, которое каждое утро синьора Анна перемещала в столовую, к залитому солнцем окну, у которого Пино оставался сидеть до самого вечера. При желании можно было перечислить по именам авторов книг, выстроившихся за стеклом стоящего у двери рядом с отопительной батареей книжного шкафа: Сальгари, Верн, Понсон дю Террайль, Дюма, Майн Рид, Фенимор Купер и так далее. Среди книг была и «Повесть о приключениях Гордона Пима» Э.А.По, на обложке которой был изображен огромный вооруженный серпом белый призрак, нависший над крохотным суденышком китоловов. С той разницей, что этот том не стоял вместе с остальными на книжной полке, а лежал перевернутый на тумбочке, рядом с толстым альбомом для марок, разноцветными карандашами в стакане, дешевым перочинным ножиком и наполовину стертой резинкой — так что белый призрак с обложки, хоть и продолжал присутствовать, быть там, однако оставался невидимым и не внушал больше ни малейшего страха.