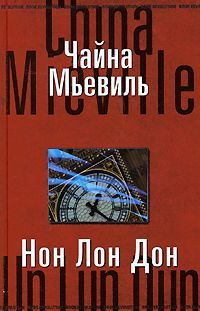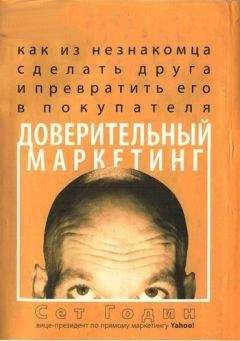— Стоп-стоп, — взмолилась Маша, — я ничего уже не понимаю. То дядя Фрейд кругом не прав, то у тебя, наоборот, все подтверждается и все мотивы человека крутятся вокруг пиписьки. Ведь ты же сам сейчас сказал, что у Гитлера были проблемы и он поэтому хотел всем отомстить. И типа все, кому не дали, те станут сволочами и маньяками.
— Ты, детка, в двух словах буквально сформулировала суть беды. Да только ведь и Фрейду самому «не дали», вся разница лишь в том, что он в своих проблемах обвинил саму природу. Он как бы сказал: ну, хорошо, да, я урод, но и все остальные уроды, и не уродов в этом мире быть не может. Низвел до собственного уровня и выдал нам с тобой индульгенцию на скотство. Хрен с этим фрейдиком, он сошка, тут что-то вывихнуто будто в самой первооснове. — Камлаев будто уже сам с собой говорил давно. — История человечества вся есть история роста недоверия и ненависти к жизни. Вот это представление, что жизнь, какая она есть, не та, и что-то в ней, не той, должно быть по-другому, вот как-то лучше, проще, справедливее, то есть доступнее. Секс не устраивает, какой-то тоже он не тот, который нужен человеку, который был бы по зубам… из дара эроса необходимо было почему-то сделать грех, а из греха — кормушку… вот именно в такой последовательности…
В начале сказано: плодитесь, да, и размножайтесь. А дальше началось… новозаветное… никто и не заметил ничего, один лишь Розанов просек, что что-то тут не то, вдруг появились неприятие, ненависть какая-то по отношению к полу. Дескать, вот если то зачатие было непорочным, то это вот, обыкновенное, есть грязь. То есть кто-то прочитал неправильно, не то прочитал, что было написано. Младенцы все невинны, а зачатие — грязь. Как это понимать? Я говорю вам, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Давайте все тогда себе поотсекаем, что ли. А то, что любящий… прелюбодействующий даже, пока он занят этим самым, не режет никого и не насилует… вот с этим как? Продление рода, праздник жизни. Нет, им все время надо что-то кому-то отрезать, себе тем более, с себя и начинать… при этом пребывая в убежденности, что жизнь от этого становиться лишь чище, краше, ближе к подобию и образу.
— Ты хочешь сказать, — Иван похолодел, — что сами те слова как будто были продиктованы…
— Я полагаю, брат, природа мудрее, чем религия, и знаю, что от полового наваждения еще никому не удавалось избавиться, пусть даже посредством кастрации. Кому-то понадобилось людишкам навязать специальный способ зрения… рогатый — это ж обезьяна, которая сидит все время в человеке и заставляет жить не жизнью, а пародией на жизнь. Что такое пародия, а? Это ведь не обязательно «йа, йа, майне кляйне». Запрет может тоже оказаться пародией. Тот, кто прячет от бабы глаза, потому их и прячет, что у него в сознание вчеканен образ вот этого «йа-йа» и ничего другого кроме. Похабщина и ханжество шагают рука об руку, две стороны они одной медали. Вот это и есть метод дьявола — сперва запретить, а потом поголовно растлить всех подглядыванием.
— Может быть, хватит, а? Давайте сменим тему, — сказала Джемма, которая давно уже сердито взглядывала на вошедшего в раж Эдисона.
— Во! Молодежь! — кивнул Камлаев на нее ворчливо. — Ты, детка, ничего, конечно, отсекать себе не собираешься.
— Я кое-что кое-кому бы отсекла.
— Не будем тыкать пальцами в кого-то из присутствующих, но ты намекаешь на то, что во всем виноваты мужчины.
— Того, что должны, не делают. Не мужики — название одно.
— Так, так, а что они тебе должны? Стоп, погоди, попробую-ка угадать, тут семи пядей быть не нужно. Нести ответственность? Хотеть семью, хотеть детей и обеспечивать своих детенышей необходимым? Ну что, я потряс тебя своей проницательностью?
— А что же он еще-то должен?
— Ну, в недалеком будущем, — вмешалась Маша. — А как без этого?
— С тобой все понятно. Вы вообще валить отсюда можете с Иваном, чтобы предаться делу сотворения потомства, а завтра в загс — уж будь уверена, он хочет, но молчит. Но я хочу послушать, что думает на этот счет твоя подруга.
— Вот то и думаю.
— То есть предложения тебе никто не делает? Ну а какого ты ждешь? В чем твоя цель? Что, выйти замуж, поселиться в огромном светлом доме, родить детей и жить вот этой простой ясной прочностью, крепостью дома, преданностью любящего сердца, кормить младенца грудью, с ложечки? Но для этого надо поверить мужчине, увидеть в нем вот эту прочность, да? Но вокруг таких нет. Все твои сверстники сплошь инфантильны… либо мажоры, прожигающие жизнь, либо беспомощные нищие дебилы, которым ничего не светит и суждено всю жизнь вертеться белкой в колесе ради прожиточного минимума. Ты ищешь и находишь того, с кем начинаешь жить, и вроде бы все хорошо, но отношения почему-то обрываются на первом форс-мажоре. Кто остается? Потасканные дядьки, которым после сорока втемяшивается начать все заново…
— Это ты про себя? — осведомилась Джемма, ковырнув.
— И про себя, конечно, тоже… я, в общем-то, твой контингент. Так вот, сменить жену, но чаще просто обновить модельный ряд подружек, да, что тебя не устраивает, поскольку это только на одну весну, до выпуска очередной модели… спектр предложений же широк необычайно. Допустим, что не те все попадаются. Урвал свое и «извини, я тебя недостоин, мы с самого начала, по-моему, решили — ничего серьезного, ты самый лучший человечек в моей жизни, но…» и так далее, и так далее. Но неужели все такие поголовно?
— Ну, ты-то правильный у нас, конечно, да, — ввернула Джемма, порядком разъяренная камлаевскими попаданиями. — Живешь с женой, воспитываешь пятерых детей, которых водишь в церковь и учишь на скрипочках, — да, отбиваясь, ткнула наугад и прямиком попала Камлаеву в хребет.
Ивану стало стыдно, как иногда бывает стыдно за чужую невольную ли, вольную бестактность, за вдруг нечаянно оброненное слово, которое ранит… хотя они сейчас, конечно, в этих препирательствах друг друга стоили — Камлаев и кудрявая блондинка с брезгливо искривленным ртом, с чем-то плаксивым и изломанным, вдруг проступившим у нее в лице.
— Да, кстати, папочка, а сколько у тебя детей, хотелось бы узнать, — еще и Маша сдуру тут добавила.
Что-то действительно не то тут было с дядькой Эдисоном… Иван был в курсе, в общем-то, об этом часто говорила мать, жалея брата… дурной какой-то, гнусно оскорбительный разлад между камлаевским вот этим гарантированным блеском, способностью влюблять в себя все женское, что движется, и этим мертвым, ледяным нулем в графе «потомство».
Ивану представлялось, дядька с его почти уродливым бесстрашием не мог не наводнить весь мир своими надменно-солнечными копиями, не мог в конечном счете не хотеть такого укрепления и продления своего бытия; верно, это и любят в детях — то, что ты и после смерти миром как будто правишь.
— …Отлично, детка, но сегодня ты со мной, — он как сквозь вату слышал ровный голос Эдисона, — гнилым, блудливым, безнадежным старичком. Скажи, зачем ты наступаешь все время на одни и те же грабли? На свете ведь полно добротных, что называется, порядочных парней. С такими как за каменной стеной. Он за тебя кого угодно загрызет, он не предаст, он присягнул, что ваша с ним любовь — до гроба… ты это прочитала у него в глазах, ты это ощутила в его хватке. Но почему же ты тогда не с ним, не с настоящим? Почему тебя тянет на гниль? Я скажу почему — ты боишься. Ты встречала таких, и не раз, звавших замуж, но стоило тебе представить всю серьезность вот этого ответственного, правильного парня, но стоило тебе представить вашу будущую жизнь, счастливую, с борщами со сметаной, как тут же почему-то становилось страшно. Что он может тебе предложить? Опустошительный набег на близлежащий гипермаркет? Вместительный серенький «Логан» в кредит? Впечатляющий отдых в одной из стран «все включено», когда тебя уже сейчас тошнит от этой синьки в грандиозной ванне под окнами гостиничного номера, от тамошних обжор, рыгал и хамов, уверенных, что жизнь им удалась. Шашлык в пансионате, шезлонги и палатки в подмосковной роще и уик-энд за уик-эндом разговоры с его друзьями про литые диски и про карьерный рост в компаниях, в которых они занимают ничтожные должности, при этом важно говоря «мы продаем», «мы покупаем». Да нет, конечно, это тоже жизнь, десятки, сотни тысяч баб живут вот так и совершенно счастливы при этом, но ты-то — не они, ты слишком грациозна и кудрява, чтобы заслуживать подобной участи.
Иван не знал, что делать, смотрел то на Камлаева, который с услужливой улыбкой достал перчатки, ножницы, пинцет… то на испуганную Машу, которая не понимала, откуда в этом сильном, умном, наверняка свободном ото всякого паскудства человеке взялась жестокая способность полоснуть, раздвинуть и ковыряться в слабом женском существе, отыскивая самое больное, уязвимое.