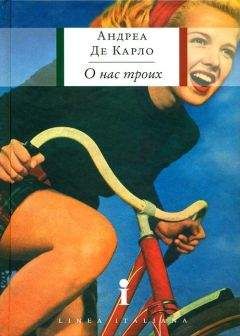— В основном любопытство, — сказал я.
— Не представляю, каким бы был мой фильм без Мизии, — сказал Марко, — но уж точно не таким, как сейчас. Наверно, был бы очередной дрянной фильм, сухой, холодный, рассудочный и безжизненный до ужаса.
Я прекрасно знал, что так оно и есть, и знал, что, если бы не Мизия, я сам сейчас не писал бы картины, которые даже кому-то нравятся, а подрабатывал учителем где-нибудь в средней школе на окраине.
— Ладно, и что дальше? — сказал я.
— Я должен ее увидеть, — произнес он. Все его крепостные стены рухнули в единый миг, во взгляде была тревога, голос звучал неуверенно.
— Позвони ей. — Я подумал, что сам уже несколько месяцев не могу это сделать; да и Мизия не давала о себе знать. Мысль, что ее голос вместо меня услышит Марко, обжигала каждый мой нерв, как пчелиный яд. — Я дам тебе ее телефон.
Марко покачал головой и сказал:
— Я не хочу говорить по телефону. Я хочу поговорить с ней лично.
— О фильме или о чем? — Меня снова обдало волной липких укоров совести, от которых сжималось сердце, и воспоминаний о той ночи на озере, когда я не сумел передать ему слова Мизии.
— Обо мне, — сказал Марко. Он распадался на глазах, будто гоночная машина, у которой кончилось масло как раз в тот момент, когда она разогналась до предельной скорости.
— И что ты собираешься делать? — спросил я.
— Взять тебя и поехать к ней, — ответил он, на лице его всепоглощающий страх боролся со слабой надеждой, а тем временем уже пробило шесть, и бар был полон, и люди заходили, пили, болтали, жестикулировали, выходили на забитые машинами улицы и исчезали среди пробок, гудков, озлобленных лиц водителей за лобовыми стеклами.
В общем, мы отправились в Цюрих на древней подержанной «альфа-ромео», которую Марко купил несколько недель назад и которая теперь рывками двигалась в размеренном течении швейцарской автострады, потому что он так и не научился соблюдать дистанцию и скоростные ограничения.
Впервые за последние годы мы опять путешествовали вместе; весело было опять ехать куда-то с ним, погружаясь в музыку группы Bluesbreakers,[26] потоком льющуюся из ветхих динамиков и затоплявшую салон. Я рассказал о своих последних достижениях на личном и рабочем фронте: набросал портрет Сары, с которой он еще не был знаком, попытался описать несколько только что законченных картин и изобретенную мной технику грунтовки. Немного, конечно, но все же лучше, чем пустые побрякушки слов, которыми нам приходилось довольствоваться еще пару лет назад после того, как мы некоторое время не виделись. У Марко, естественно, впечатлений было больше, благодаря работе он знакомился с новыми людьми, местами, ситуациями; я смеялся до слез, когда он изображал римского продюсера, с которым на днях подписал контракт; я пришел в восторг, когда он изложил свои новые идеи относительно фильма. Вопреки моим опасениям, он не гордился своим даром воссоздавать образы и атмосферу; не пытался укрыться за маской независимого молодого гения, которую ему навязывал окружающий мир. Каждый раз, вспомнив, куда и зачем мы едем, он резко замолкал, снимал ногу с педали газа, не слишком заботясь о соблюдении дистанции, хватал меня за рукав и говорил: «Как ты думаешь, как Мизия нас встретит? Запрет все двери и окна? Или оставит хоть щелочку? Или будет прямо-таки на седьмом небе, что можно сбежать от постылой семейной жизни?» Говорил: «Как ты думаешь, у нее есть ребенок? А может, она уже ждет второго? А может, уже и родила второго?» Говорил: «Как по-твоему? Эй! Ливио?»
Я не знал, что сказать, когда речь шла о Мизии, нельзя было исключать никакую возможность. По мере того как мы приближались к Цюриху, во мне поднималась волна беспокойства; мне казалось, что во время последнего нашего телефонного разговора я заметил тревожные признаки в ее голосе и интонациях, я представлял ее в роли матери семейства и жены нейрохирурга и не мог узнать в этом образе прежнюю Мизию. Меня уже загодя переполняли замешательство и грусть; я снова чувствовал, что должен рассказать Марко о словах Мизии, которые она просила передать ему той ночью на озере, но не знал, как это сделать. Мы проезжали километр за километром, и чем яснее я понимал, как важно дать ему полное представление о ситуации, тем меньше находил в себе сил заговорить.
А потом мы оказались на безликой окраине города, где решила поселиться Мизия, и последняя возможность объясниться растворилась в неожиданном препятствии: мы не могли найти дорогу. Двинулись было к центру, не имея ни малейшего представления, где находится улица, указанная в обратном адресе ее единственного письма, дважды объехали вокзал, спрашивали дорогу у прохожих, подозрительно косившихся на наши физиономии и видавшую виды машину. Движение здесь было неумолимо правильным, так что мы при всем желании не могли выбиться из потока автомобилей, и Марко бранился: «Черт побери, как в трамвае тащимся». Мы оба очень нервничали от того, что скоро увидим Мизию, и ощущали себя дикарями в незнакомом холодном краю; нам казалось, что первый встречный постовой или полицейский может нас остановить и отправить в тюрьму без всякой причины.
В конце концов какая-то толстая дама показала нам, куда ехать; пару раз мы свернули не туда на подъеме, пару раз проскочили на красный на спуске и наконец увидели табличку с названием улицы, где жила Мизия. Теперь Марко ехал со скоростью пешехода; мы с одинаковым замиранием сердца озирались по сторонам, вглядывались в каждый дом, в каждый сад, ловили малейшие признаки движения на тротуаре или среди припаркованных машин. Я ждал, что с минуты на минуту увижу Мизию: вот она вылезает из минивэна, увешанная пакетами с продуктами; или катит высокую голубую коляску; или ведет за ручку малыша во взрослом костюмчике, с надутой мордашкой; или сделала себе прическу, изменившую ее до неузнаваемости; или у нее теперь другой, совсем незнакомый взгляд. Марко нервничал еще больше, чем я, вел машину рывками и все повторял: «Боже мой, Ливио, боже мой»; когда мы оказались у дома Мизии, он так резко затормозил, что я чуть не врезался головой в лобовое стекло.
Перед нами стоял белый деревянный дом с большими окнами и садом, такой же, как все дома на этой улице; мы вышли из машины, вокруг не было ни души, ни один звук не нарушал тишину. Марко огляделся и сказал:
— Как ее сюда занесло? Как она может жить в таком месте?
Я не ответил; я спрашивал себя, стоило ли давать ему адрес и ехать вместе с ним, и как отнесется Мизия к нашему появлению.
Мы оба не решались подойти к двери, мерили шагами тротуар перед домом и глядели на окна с белыми занавесками и аккуратно подстриженный газон. Наконец Марко произнес тоном самоубийцы, прыгающего с карниза:
— Ну, я пошел, — и нажал кнопку звонка.
Дверь открыла горничная-итальянка, пухлая и накрашенная, как кукла, и сказала с малопонятным акцентом:
— Хозяина нет дома.
— А Мизия? — спросил Марко; мы оба пытались заглянуть внутрь, но дверной проем был неширокий, и горничная занимала его почти целиком.
— Хозяйка здесь больше не живет, — горничная явно собиралась захлопнуть перед нами дверь.
— А где она живет?
— Не знаю, — горничная уже потянула дверь на себя.
— Как не знаете? — воскликнул Марко с отчаянием в голосе. — Разве она не оставила адреса или еще чего-нибудь? Номера телефона?
— Нет, ничего, — сказала горничная и захлопнула дверь перед нашим носом.
Марко посмотрел на меня, все еще не веря; я никогда не видел его таким бледным. Он опять позвонил, палец его дрожал от напряжения. Горничная чуть-чуть приоткрыла дверь и сказала:
— Ничего нет, никого нет, и я тоже скоро должна уйти.
— Подождите, — сказал Марко, но она уже захлопнула дверь.
Марко изо всех сил вдавил кнопку звонка; казалось, весь дом содрогается от удара током. Но горничная больше не открыла, только повторила, как заклинание, через массивную деревянную дверь: «Ничего-ничего-ничего».
Марко в бешенстве пару раз грохнул в дверь кулаком, в недвижной тишине улицы удары прогремели, как выстрелы. Потом очень медленно перешел дорогу и сел на край тротуара. Я сел рядом; мы сидели в неестественной тишине и смотрели на дом Мизии, чистенький, аккуратный и совершенно безжизненный.
Пожилая дама с собачонкой на поводке потихоньку, шаг за шагом, поравнялась с нами и проковыляла дальше; пара автомобилей бесшумно проехали мимо и исчезли в конец улицы; горничная-итальянка вышла из бывшего дома Мизии, заперла дверь на четыре оборота, подозрительно посмотрела на нас и зацокала прочь. Мы так и сидели на бордюре: все ожидания и страхи, терзавшие нас по дороге, развеялись как дым, и казалось, мы можем просидеть так целую вечность.